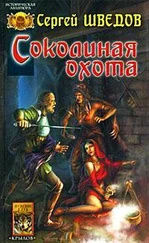И долго —
тя-нет-ся за на-ми,
отставая.
Видно, по ушедшим память гложет…
Как стоп-кран рвут,
отдаляя расставание,
окна – настежь,
душу – настежь тоже!
Господи, дома-то постарели как!
Сгорбились над лужами, ворча,
словно бабки над остывшими тарелками
щей – для не заехавших внучат.
Воздуха – как в песне.
Слышно версты.
Мы бросаем в речку пятачки.
Мы сюда когда-нибудь вернемся.
Избяная наша, подожди.
Оглянусь…
К стеклу прижавшись, сяду,
ощутив прохладу у щеки.
А они столпились и с досадой
смотрят с того берега реки.
Не хватает зрения,
моргают.
И печаль струится сквозь очки.
А потом, наверно, собирают
брошенные нами пятачки.
1986
И грянул гром,
и выпал снег —
грусть вперемешку с шумом капель.
Как будто кто рассыпал смех,
потом подумал
и заплакал.
А позже снег, набравшись сил,
качался мутными стеблями.
Но ветер, воя,
их косил,
звеня воздушными серпами.
Потом, себе устроив роздых,
над клумбой – словно он продрог —
волчком крутился в хлопьях звездных
и зарывался под сугроб.
Потом порхал. И так был сочен.
И так загадочен на вид,
что целый миг казалось —
ночью
он снова в небо улетит…
Хотелось – но никто не вышел —
из снега горки заливать.
Все знали:
завтра день опять.
И грязи будет
выше крыши.
1985
Душу, жившую бесслезно,
омываю раз в году
голым трепетом березы,
как из лужи на снегу,
средь цветного обезличья,
надоевших роков вой —
русской песенной привычкой,
полосатою судьбой.
В сердце чувственная ругань
памяти гнездо свила,
но порой, как голос друга,
забываются слова.
И в предчувствия, как с горки,
мчишься, отморозив нос.
И любовь в дубленом горле
застревает, словно кость.
И опять приходит плата —
гаркнуть прошлому: люблю!
И так хочется заплакать,
и опять, стыдясь, терплю.
И, свернувшись матерщиной
в накопившемся соку,
черно-белая судьбина
примерзает к сапогу…
1986
В свете жизнью разыгранных драм,
что бы там атеисты не прочили,
влюбленный —
в женщину вхожу,
как в храм,
сотворенный великими зодчими.
И ее просветленным глазам
исповедуюсь напропалую,
к ним припав,
как к живым образам, —
Богоматери руки целую.
Каждый любящий – это родня, —
по скорбящему лику почуял
и, забывшись и взор свой подняв:
«Мама, мама, где сын твой?!» —
кричу я.
«Может, умер он, может, в беде —
нищий духом, но в этой обители
воскрешаю в себе и в тебе
я любовь нашу, мною убитую.
С ней повязан я отчей силой».
В то и верую, осиянный,
что целую свою Россию
в губы черные Несмеяны.
Не бывают чужими объятия!
Под родным
венценосным кровом
дорисовываю уста невнятные
я своей, пусть испорченной, кровью.
И служить тому чувству вещему
вечный крест нас благословил.
В церкви молюсь я женщине,
живущей в вечной любви.
1986
И в память клонится чело.
Десятый век вьюжит…
Россия,
какой неведомою силой
тебя вдоль мира размело?!
Валяют ваньку отовсюду.
И с дыркою, взамен креста,
мужик шатается приблудный
и не желающий родства.
Он как дыхнет…
И в звездной стае
запляшет солнце,
словно черт.
«Окстись!» – вскричу.
Душа оттает.
Но с крыш, как назло, потечет.
1987
Не в силах распрощаться с днем вчерашним
и втискиваясь в завтра самое,
я чувствую себя угнавшим самолет,
увидев землю с Сухаревой башни.
Домой лечу. И мается душа.
В иллюминатор выглянув с тревогой,
все то же вижу там: два алкаша
и б… бредут тоскливо по дороге.
И тонут с откровением и болью
во взглядах их и жизнь моя, и грусть,
и самолет, – как крест на снежном поле.
А все пути ведут в Святую Русь…
А я лечу, как будто на премьеру
чужой судьбы. Озлоблен, как дублер,
с упрямством постигая – не Рублев
в ту «троицу» выписывал мне веру.
А мы летим. И монотонно-странно
проходит жизнь, не ведая беды.
И под пятою остаются страны,
и люди – вне борьбы и вне судьбы…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу