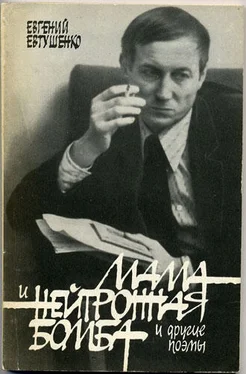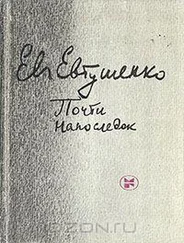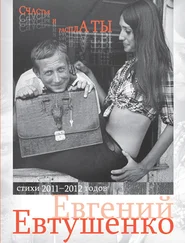Мама,
мне страшно не то,
что не будет памяти обо мне,
а то, что не будет памяти.
И будет настолько большая кровь,
что не станет памяти крови.
Во мне,
словно семь притоков,
семь перекрестных кровей:
русская —
словно Непрядва,
не прядающая пугливо,
где камыши растут
сквозь разрубленные шеломы;
белорусская —
горькая от пепла сожженной Хатыни;
украинская —
с привкусом пороха,
смоченного горилкой,
который запорожцы
клали себе на раны;
польская —
будто алая нитка из кунтуша Костюшки;
латышская —
словно капли расплавленного воска,
падающие с поминальных свечей над могилами в Риге;
татарская —
ставшая последними чернилами Джалиля
на осклизлых стенах набитого призраками Моабита,
а ещё полтора литра
грузинской крови,
перелитой в меня в тбилисской больнице
из вены жены таксиста —
по непроверенным слухам,
дальней родственницы
Великого Моурави
Анна Васильевна Плотникова,
мать моего отца,
фельдшерица, в роду которой
был романист Данилевский,
работала с беспризорниками
и гладила по голове
рукой постаревшей народницы,
возможно, Сашу Матросова.
Рудольф Вильгельмович Гангнус,
отец моего отца,
латыш-математик,
соавтор учебника «Гурвиц — Гангнус»,
носил золотое пенсне,
но строго всегда говорил,
что учатся по-настоящему
только на медные деньги.
Дедушка голоса не повышал никогда.
В тридцать седьмом
на него
повысили голос,
но, говорят,
он ответил спокойно,
голоса собственного не повышая:
«Да,
я работаю в пользу Латвии.
Тяжкое преступление для латыша…
Мои связи в Латвии?
Пожалуйста — Райнис…
Запишите по буквам:
Россия,
Америка,
Йошкар-Ола,
Никарагуа,
Италия,
Сенегал…»
Единственное, что объяснила мама:
«Дедушка уехал.
Он преподает
в очень далекой северной школе».
И я спросил:
«А нельзя прокатиться к дедушке на оленях?»
До войны я носил фамилию Гангнус.
На станции Зима
учительница физкультуры
с младенчески ясными спортивными глазами,
с белыми бровями
и белой щетиной на розовых гладких щеках,
похожая на переодетого женщиной хряка,
сказала Карякину
моему соседу по парте:
«Как можешь ты с Гангнусом этим дружить,
пока другие гнусавые гансы
стреляют на фронте в отца твоего?!»
Я, рыдая, пришел домой и спросил:
«Бабушка,
разве я немец?»
Бабушка,
урожденная пани Байковска,
ответила «нет»,
но взяла свою скалку,
осыпанную мукой от пельменей,
и ринулась в кабинет физкультуры,
откуда,
как мне потом рассказали,
слышался тонкий учительшин писк
и бабушкин бас:
«Пся крев,
ну а если б он даже был немцем?
Бетховен, по-твоему, кто — узбек?!»
Но с тех пор появилась в метриках у меня
фамилия моего белорусского деда.
Мой отец
Александр Рудольфович Гангнус
не носил никакой комсомольской кожанки
и более того —
вызывающе носил галстук,
являвшийся,
по мнению общественности,
буржуазной отрыжкой,
за что был однажды чуть не исключен
из Геологоразведочного института.
Об этом отец рассказал, смеясь,
когда его
в середине семидесятых
не пропустили в ресторан «Советский»
именно из-за отсутствия
«буржуазной отрыжки» на шее.
Когда я принес моей маме рукопись «Братской ГЭС»,
мама заплакала и достала из коробки «Ландрин»
одно пожелтевшее фото.
Там юная геологиня —
мама
неловко сидела на шелудивом коне,
подняв накомарник,
словно забрало,
а мой отец —
неисправимо некомсомольский —
галантно поддерживал мамино стремя,
ей помогая спрыгнуть с коня у костра.
Мама перевернула фото и показала блеклую надпись,
сделанную отцовской рукой:
«На месте изысканий будущей Братской ГЭС. 1932 год».
Мама погладила пальцем
такое далекое пламя костра
и неожиданно отдернула руку,
как будто пламя еще обжигало.
Мама,
запинаясь,
подыскивала слова:
«У этого костра…
ты был…
начат…» —
и покраснела, как девочка.
А почему разошлись моя мама и мой отец,
я не знаю…
Наверно, дело в костре,
у которого пламя просто устало,
хотя иногда еще может обжечь
сфотографированное пламя.
Папа был после дважды женат.
Я любил всех папиных жён,
начиная с собственной мамы.
А еще я любил всех других женщин,
любивших моего папу, —
в их числе одну заведующую отделом
в Союзводоканалпроекте,
пятидесятилетнюю мать двух кандидатов наук,
обожавшую черные шляпки с розовой лентой
и себя называвшую в письмах к папе
«твоя Ассоль».
Моей маме, естественно,
не нравилось то,
что мне нравились жёны
и другие женщины папы.
Иногда осуждая меня за что-то,
мама горестно вздыхала:
«Вылитый отец!»
А отец, которому несвойственно было осуждать,
разводил руками:
«Вылитый мама!»
Поэтому
если я окажусь гениальным,
не надо меня отливать из бронзы,
а пусть отольют
моих папу и маму —
и это буду
вылитый я…