Боль уходила сквозь бинты,
а ей на смену шел покой.
И он сказал: братишка, ты
какой-то нынче не такой.
Ты как-то странно молчалив,
а ведь язык — как помело…
Ты жив и я, как видишь, жив,
нам, брат, обоим повезло…
Когда грузили в вертолёт,
он прошептал, что давит жгут,
но рана — мелочь, зарастёт…
А врач сказал: не довезут.
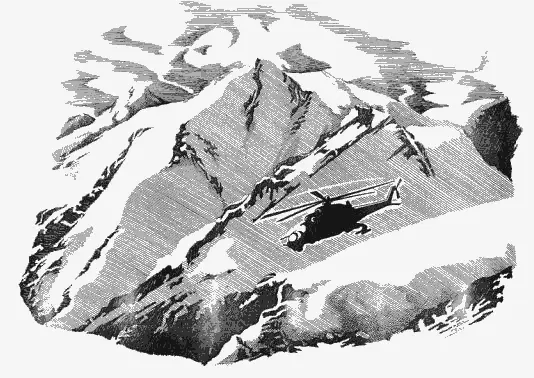
Пуля — дура, штык — простак…
Все не так здесь, все не так.
На неправильной войне
все неправильней вдвойне.
Нет — неправильней стократ…
Даже русский автомат —
распрославленный «калаш» —
так и тот уже не наш,
раз огонь ведет по мне
на неправильной войне.
Даже враг — и тот не тот…
Может, он сейчас идет
рядом с кем-нибудь из вас,
а в ночи взорвет фугас.
Впрочем, разве ж только враг?
Я — неправильный! Очаг
общий наш мы рушим с ним,
вроде как назло самим.
Хоть по горло, по края
настрелялись он и я,
хоть у каждого теперь
счет несчитанных потерь.
Пуля — дура, штык — простак…
Все не так здесь, все не так.
Кровь не смыть ему и мне
на неправильной войне.
А я пивал
из грязных луж,
болотных бочагов
и речек в половодье.
Держась за гуж,
терпел, когда не дюж,
и не марал солдатское исподне,
когда стреляли с гор,
когда — в упор,
когда разрывы —
гуще, чем нарывы
на обмороженных
в разгар декабрьских стуж
ногах…
Давай, метель — завьюжь,
дождина — шпарь,
и жарь сильней, светило…
А нам ничто иное не светило:
пехота, братцы, и сейчас — пехота.
Ее удел — в крови, поту, блевоте,
скотинке серой, выблядку войны…
Что морщитесь?
А, вона как — нежны…
Ну, ясен пень: мы нахрен не нужны,
мы только вам — должны, должны, должны…
В жару и холод — топать, топать, топать,
втирая в лбы пороховую копоть,
в бою неловко дыры в теле штопать,
зарыться в землю, прорасти в окопы —
и гибнуть, прикрывая ваши жопы.
…А так вам
нету дела до пехоты.
Ромашка на бруствере…
Глупо…
Здесь лучшие саженцы —
пули.
Небес бронированный
купол
хранит пулеметные
ульи.
Ромашка на бруствере…
Странно…
Здесь место осколкам
горячим.
Смотрите, как бруствер
изранен,
ромашку уж точно
не спрячет.
Ромашка на бруствере…
Чудо,
растущее прямо
в закат…
Себя ощущая
иудой,
срывает ромашку
солдат.
И слышит ромашка —
шепнул ей
солдат, не скрывая
вины:
нельзя вас, ромашек,
под пули…
Хватает и нас
для войны…
Я помню только боль —
и ничего иного…
Но все же из молитв
всплывает исподволь
никак не вспоминаемое слово,
которое — единственный пароль…
Оно, быть может, ключ,
чтоб вырваться из плена —
несвежих простыней
и трещин в потолке,
бесформенных теней
на госпитальных стенах,
бессонницы, отточенной,
как нож на оселке.
Я помню только жар —
и ничего иного…
И из войны в войну
земной катится шар,
стирая в пыль завещанное слово
и обнажая лезвие ножа.
А нож, как видно, зол
и жаждет омовенья
в кровавом и шальном
безудержном пиру,
и видятся в окно,
как светопреставленье,
судьбина беспросветная
и тризна на юру.
Я помню только тьму —
и ничего иного…
Молюсь, чтоб вопреки
бессилью своему
я вспомнил ускользающее слово —
оно бы и прикончило войну…
Оно в последний раз
рвануло бы гранатой,
влепило пулю в лоб,
не чувствуя вины…
И сколотило гроб —
не для меня, солдата…
Для, наконец, законченной —
и навсегда — войны…
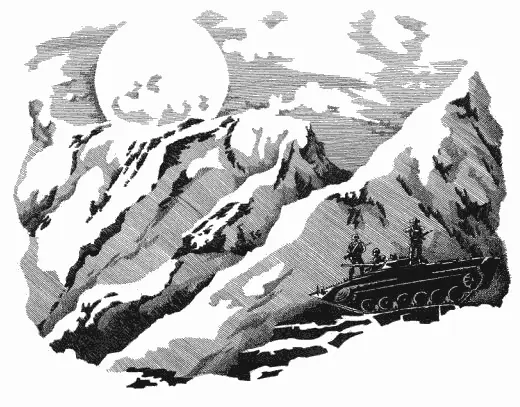
Война (сказать бы поточней)
Все ожидания обманет…
Здесь кто-то станет сволочней,
Кого-то здесь совсем не станет,
А кто-то, сдюживши в бою,
Дорогу к миру не осилит…
Война — проверка на краю…
И жесткий выбор: или — или…
И те, кто выжил, но не дюж,
Не устояв пред искушеньем,
Оставят здесь останки душ
И не заметят пораженья.
И потому слова молитв
Звучат в бою и после боя:
О, Боже, пусть душа болит…
Болит — останется живою.
Ну, что ты, осень, плачешь у заставы?
Оплачь тогда и наших, и чужих…
Ни мы, похоже, ни они не правы,
Ну, так и что же — нам не целить в них?
Но здесь война. И значит — не до плача.
Слезою затуманивши прицел,
схлопочешь тотчас парочку горячих…
Кто первым бьет, тот, стало быть, и цел.
Вот так, сестра… Дождем да листопадом
смущать солдата — это смертный грех.
А вот убьют — тогда с тобою рядом
я стану, осень, и оплачу всех.
Читать дальше
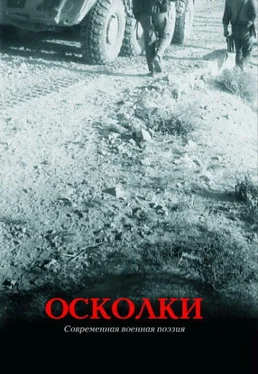
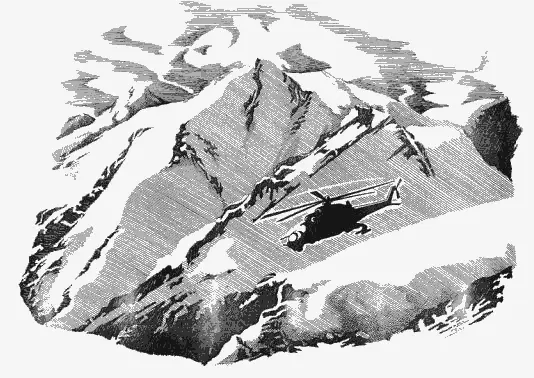
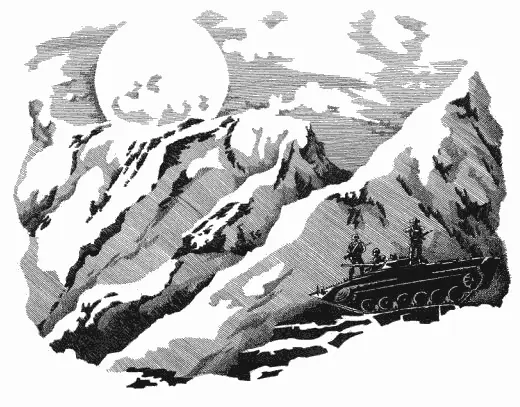


![Глеб Бобров - Я дрался в Новороссии![сборник]](/books/116799/gleb-bobrov-ya-dralsya-v-novorossii-sbornik-thumb.webp)



