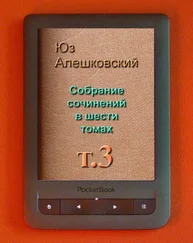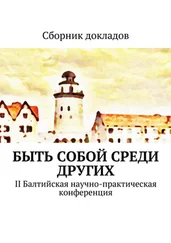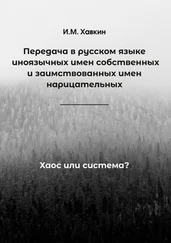Из-под ресницы
проросла слеза,
упав на угловатую подушку.
И в тишине
глухого каземата
зашлась навзрыд,
не в силах говорить…
Который месяц
видятся закаты
и ни на миг —
хотя б клочок зари.
Сюда, сюда, —
где страх, как малярия,
где вечность — миг,
а мука так длинна,
кусая губы,
ты вошла, Мария,
и встала у морозного окна.
А за окном,
а за глухой стеною —
качается и мечется пурга,
идут солдаты,
вздрагивает хвоя,
гремят копыта,
падают снега.
А на земле
так близко воскресенье,
рукой подать,
несчастная моя,
до первых гроз,
до первого цветенья,
до первого удара соловья.
А по садам
опять грачи гнездятся,
капели
с крыш тесовых
точки бьют.
Кто ей протянет руку попрощаться?
Стучит священник —
видно, причащаться,
на площади
палач и плаха ждут.
Как тяжелы здесь ржавые решетки,
как много скорби
в каменных стенах.
— Но кто это?
Весь в черном, с чашей…
Ах!..
Как изваяние,
щипая четки,
к тебе во мгле
склоняется монах.
— Покайся, грешница!
Вот крест Господень,
прими отдохновение души.
Какие ж
злодеянья преисподней
лукавый
сердцу бабьему внушил!
Вкуси же тела,
выпей кровь Христову,
ты, недостойная,
ты тяжкий крест неси.
А может быть…
Наследника престола
ты вытравила?
Боже, упаси!..
— Нет-нет! —
и горестные слезы…
Тихо
монах уходит, дверь
он распахнул.
Она взглянула в коридор —
там лихо,
за ней
пришел
солдатский караул.
На площади
толпа давно теснится.
Надвинув шапки,
кутаясь в платки,
застыли заколдованные лица
назад — ни шагу,
ни вперед — руки.
И только холодок,
густой и колкий,
пополз по спинам,
дернулся в плечах,
когда к помосту
царская двуколка,
ободьями железными стуча,
вдруг
выросла грозой у поворота,
неумолима,
будто острие.
И в этот миг
раскинулись ворота
и вывели из крепости ее.
«Ведут!
Ведут!»
(Нет на пути помехи.) —
Толпа зашевелилась,
словно спрут.
С резных крылец
отсвечивало эхо,
из-за углов рвалось:
«Ведут!
Ведут!»
И Петр увидел:
в полукруге стражи
белей снегов —
напрасен полукруг —
спешило
платье с кружевным фонтажем
и ленты
содрогались на ветру.
Вся нежная
и вся воздушней дыма,
вся тихая, как сон,
белым-бела,
кнутами пытана,
огнем палима,
к Петру,
к царю,
Мария подошла.
Присела в реверансе,
шелком вея,
ресницы подымая, как рассвет,
вот так же,
как тогда,
на ассамблеях,
когда он
приглашал
на менуэт.
Влекомый алчным
любопытством детским,
со стороны,
откинувшись назад,
Петр посмотрел
в подчеркнутые резко
бессонницей
горячие глаза.
Вот-вот в них вспыхнет
тяжкое рыданье,
но просьбы не видать —
скорей мятеж.
Они полны печали
и страданья,
жестоких снов,
раздумий и надежд.
Он руку протянул.
Коснувшись платья,
рванул ее
на скользкий эшафот.
А ведь совсем недавно
в каземате
переступил ей
двадцать третий год.
Петр мыслью злой
источен и измаян,
почти больной,
почти что тайны раб,
Руси непререкаемый хозяин,
склонился к ней,
до шепота ослаб.
Петр
Ах, горе, Марьюшка,
сама себя ты губишь…
Казнить…
и ми-иловать вольны цари.
Скажи мне, Марьюшка,
ай вправду любишь?
Одну лишь правду,
правду говори!
Мария
Да, государь, люблю!
Уж третий год…
Петр
Ах Марьюшка,
признание-то всуе..
А не царевич ли —
младенец тот,
что отыскался вдруг…
у ног статуи
в саду?
Мария
Нет, государь.
Петр
Небось в хмелю
ты, Марья,
с денщиком моим
сблудила?
Сблудила?
А?
Мария
Нет, государь, — любила
и ныне
пуще прежнего люблю.
А Ваня —
он ни в чем не виноват,
все я —
его напасть,
лихая доля…
Ты, Петя,
выпусти его на волю…
Царь отшатнулся.
Сделал шаг назад.
Как будто отодвинулась стена, —
и пред Марией
на кол галка села.
И вздрогнула
и поняла она:
последняя
надежда
отлетела…
И ненавистью жгучей,
но без страха,
сияя глубиною,
встретил взор
в рубцах
исполосованную плаху,
на палаче посконную рубаху,
на сгиб руки
повешенный топор.
А воронье охрипло,
как на торге,
и суживает жадные круги…
Как строги,
как томительны,
как долги
секунд предсмертных
тихие шаги!
Она еще склониться
не успела,
толпа зажмурилась,
забыв слова,
когда
от поскользнувшегося тела
к Петру
закувыркалась голова.
Читать дальше