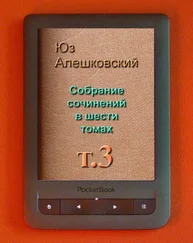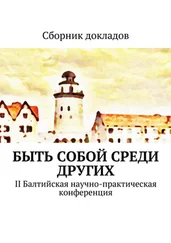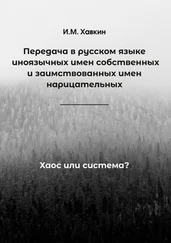Июль 1938 года. Ухта
Мозг охватило тишиной.
Как двери хлопают, не слышу.
Глаза горят — и мир иной
повертывается и дышит.
А неба обморочно дно,
набитое кровавой дробью,
и лезет сквозь кусты в окно
больной луны звероподобье.
1938 год. Ухта
Среди радости русского леса
поднималась она,
хороша,
сто колец прорезало железо,
золотая открылась душа…
Повалилась сосна, повалилась,
подрубили ее моготу —
не за слабость корней,
не за хилость,
за величие,
за красоту.
Май 1938 года
Когда разверзнется небо,
и Страшный настанет суд,
и мертвые вдруг воскреснут —
их на суд призовут.
Под раскатами грома,
при молнии грозовой
бог каждому жившему
воздаст по делам его.
И каждая тварь земная
станет покорна судьбе.
Писателей и художников
бог призовет к себе.
За муки, за их дарованье,
поруганное не раз,
в золотые посадит кресла,
золотые им доски даст,
золотые большие кисти,
золотые карандаши,
поднимет торжественно руку
и каждому скажет: «Пиши!»
И станут писать о том лишь,
что видели, что их пленит,
никто не скует их мыслей,
песен их не стеснит,
и тогда оскорблявшая,
пытавшая их орд а
будет в бездну забвения
брошена навсегда.
1938 год. Порожское
«Испытываю силу ножевую…»
Испытываю силу ножевую
всей сущностью своей,
и сердцу страшно;
раб времени,
во времени живу я,
дни плотны,
как пласты на пашне.
Навет — и след:
слова, как шершни, жалят…
Решетка лжи…
Мне дел бы непочатых!
О время, время,
на твоих скрижалях
так много клякс и опечаток.
Январь 1939 года
Казнь на Троицкой площади
Еще с утра, с рассветного тумана, в домах
был сон замысловатый смят, —
то в лад
припадочному барабану
приподнимались
ноги
у солдат.
И в скорбных улицах
из ранней хмари
стучался
голоса крестящий кнут,
что девку сверьху [15] Верхние этажи дворца, где жили фрейлины. — Авт .
,
Гаментову Марью,
казнят за нераскаянье,
за блуд,
за кражу,
убиенье плода в чреве,
как показали
розыск и досмотр,
и что на казнь
пожалует во гневе
сам царь.
Сам император Петр.
В снег колесованный,
шагов метанье
сержант
размеренно
производил…
Он руку вверх —
и барабан не бил,
он на ходу
переводил дыханье,
чтобы отчетливей была
и строже
царева
воля
произнесена.
И между фраз,
зловещая до дрожи,
на миг обрушивалась
на прохожих
страшней землетрясенья
тишина.
И как на грех,
ни петуха,
ни ржанья,
ни грома,
ни поземки,
ни дождя,
прислушивались чутко горожане
за ставнями,
щеколд не отводя;
и пятились невольно,
робко, слепо,
повертывали головы —
чу, звон! —
туда,
где Петропавловская крепость,
где Трубецкой
в потемках
бастион,
туда,
где рядом Троицкая площадь,
где грань всех мук,
где кипятят смолу,
где бороду боярскую
полощет
варяжский ветер
на крутом колу;
где в ссадинах
и с ликом скорбно-гордым, —
в чертах чела
окаменела грусть, —
с захлестнутым
тугой веревкой
горлом,
в горлатной шапке,
в охабне просторном
на виселице
вздернутая Русь.
И там,
в неиссякающем безмолвье,
от эшафота в ста шагах,
одна,
глядит Мария,
встав у изголовья,
в колодец
вырубленного окна.
Она вздохнула — боль.
Опять ей сон
все тот же снился,
будто в муке
на дыбу
с хрустом
поднят он…
И руки обломились на роброн,
тоскующие
мраморные руки.
А день встает
такой же, как вчерашний,
все так же,
как и в первый день, —
решетка узловатая
да башни
горбатая,
кочующая тень.
Все так же верен
утренней побудке,
застыл на четверть века —
в стужу,
в зной —
указом царским
в полосатой будке
к ружью
приговоренный
часовой.
Все так же
времени чеканя даты
на звоннице руками
каждый час,
прелюдию голландскую
солдаты
разыгрывают.
Звяканье ключа…
За дверью
надзиратели болтают.
Ночь бронзовая плавится.
Литая
луна дробится,
в облаках ползя.
Скорей!..
Как медленно светает…
О, это каменное равнодушье!
Безмерна ноша.
Горькая стезя.
Сломать бы стены!
Ветра!
Неба!
Душно!
Читать дальше