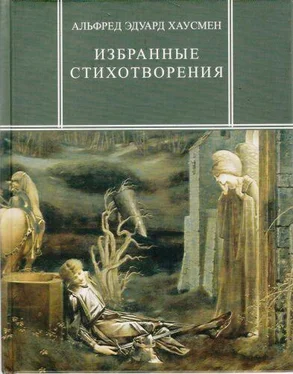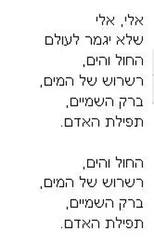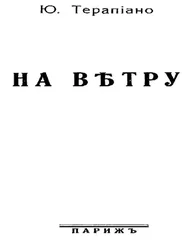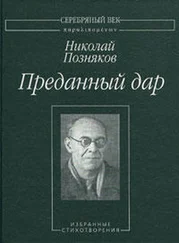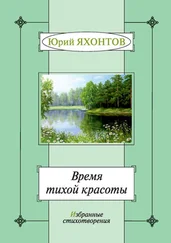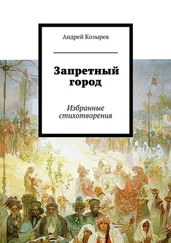И насколько это добротно сделано! Но подобные писания, хотя и были славой и гордостью своих создателей, всё же не могли их удовлетворить. Авторы этих стихов чувствовали, что в конце концов всё это не может ни сравниться с поэзией других веков, ни совпасть с представлением о поэзии, которое смутно рисовалось в их головах, и устремлялись к чему-то другому, не столь прозаически приземленному. Это выглядело, как если бы страусиха пыталась взлететь. Сама по себе страусиха — подвижнейшее из созданий, смеющееся и над лошадью, и над ее всадником, и хотя, как нам говорят, Господь лишил ее мудрости и понимания, всё же он не настолько обделил ее, чтобы она не знала того, что она не жаворонок и не орел. К поэтам восемнадцатого века поэзия высоких и глубоких страстей не приходила спонтанно, чувства, способствовавшие ее приходу, не переполняли, требуя себе выхода, внутреннего человека; поэты опоясывали чресла и брали возвышенный тон, соревнуясь на ярмарке честолюбий. Создавать настоящую поэзию, по их мнению, означало писать нечто как можно более непохожее на прозу; для этой цели ими был выработан стиль, названный «блестящим и точным» и состоявший в неизменном использовании неподходящего слова вместо подходящего, прикреплении его, как орнамента, безо всякой заботы о соответствии тому, что они хотели украсить этим орнаментом. Этот стиль привлекал внимание, ошибиться в его распознавании было трудно, поэтому вскоре общественным мнением он был связан с самим понятием поэзии и единственный сочтен поэтичным {13} 13 Теперь уже стало привычным говорить, что и девятнадцатый век тоже обладал собственным поэтическим жаргоном. Это правда или очень близко к правде: в семидесятых и восьмидесятых годах все незначительные поэты и стихотворцы использовали одну, по общему мнению, поэтическую манеру. Она была вялой и подражательной, но не нелепой: ее главной чертой была своего рода увядшая миловидность. As one that for a weary space has lain Lull'd by the song of Circe and her wine In gardens near the pale of Proserpine, Where that AEean isle forgets the main, And only the low lutes of love complain, And only shadows of wan lovers pine — As such an one were glad to know the brine Sat on the lips, and the large air again… [55] Атмосфера восемнадцатого столетия заставляла куда лучших поэтов писать много хуже: Lo! Where the rosy-bosom'd Hours, Fair Venus' train, appear, Disclose the long-expecting flowers And wake the purple year! The Attic warbler pours her throat [56] и т. д.
. По правде говоря, он был одновременно и помпезным и бедным. Обладая выбранным и поэтому ограниченным словарем, он не соответствовал множественности и утонченности своих задач. Он не мог описывать природу с чуткой верностью натуре, он не мог выражать человеческие чувства во всем их многообразии и сложности. Мутная, застывшая, непроводящая среда легла между автором и его трудом. И это омертвление языка имело и другие последствия: оно распространялось внутрь — омертвлялось само восприятие. То, что более не могло быть описанным, уже не замечалось.
Черты и характер этого стиля могут быть рассмотрены в жестком свете на примере драйденовского переложения Чосера. Рассказ рыцаря «Паламон и Арсита» не принадлежит к числу чосеровских удач, тут поэт не чувствует себя так совершенно дома, как, например, в «Прологе» или в «Рассказе о Шантеклэре и Пертелот», и ход его стиха несколько вял. Драйденовский перевод являет своего автора во всеоружии мощи и изощренности, большая часть этого труда может быть предметом искреннего и трезвого восхищения. И нельзя сказать, что переводчик был бесчувствен ко всем блестящим чосеровским странностям: ему достало ума сохранить в неприкосновенности такие строки, как —
Up rose the sun and up rose Emily [16] Тут встало солнце, и Эмилья встала (пер. О. Румера). Этот чосеровский стих нашел свое отражение у Хаусмена. В шестом стихотворении книги «Последние стихи» есть строчка: «The sun is up, and up must I».
или —
The slayer of himself yet saw I there [17] Самоубийцу я увидел там (пер. О. Румера). И этот чосеровский образ встречается у Хаусмена: последний стих второй строфы стихотворения "Hughley Steeple" (ASL LXI): "The slayers of themselves".
Он понимал, что ни ему самому, ни кому-нибудь другому этих строк не улучшить. Но куда более часто в сходных ситуациях он всё же пытался улучшать, считая себя способным на это. По собственному свидетельству Драйдена, он верил, что то, чем он занимался, было «переложением некоторых «Кентерберийских Рассказов» на наш язык в соответствии с его нынешним усовершенствованием» и что «поскольку Чосер нуждался в современных средствах фортификации, то некоторые его слова должны быть оставлены, как устаревшие, не подлежащие защите укрепления». Продолжая, Драйден признается: «в некоторых местах, находя текст моего автора — из-за нехватки слов в раннюю пору нашего языка — недостаточным и не придающим мысли должного блеска, я добавлял кое-что от себя».
Читать дальше