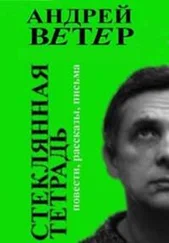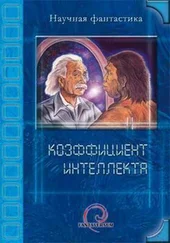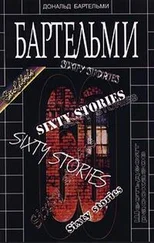Тесный пригород, скрипка,
эфиопские лица прохожих
и детские тельца кузнечиков.
Мне мерещится
яблока тонкая кожица,
близкий запах растертой травы
на ладошках - запах вечера,
длинного, влажного, уходящего в сон,
под размытые тени на занавесках.
Мало вечности,
а нужно, чтобы скрипка кричала
сквозь дождь, чайник
шумно ворочался,
а цыганка стояла в подъезде,
где на верхней площадке
целовались и слушали
темные звуки прихожих.
Мы уедем с тобой на автобусе,
в праздник
тесно-тесно обнявшись
на задних сиденьях,
а на пыльную площадь у автовокзала
выйдет сонный и пьяный мужик
и проводит
мутным глазом автобус
и, под ноги сплюнув, здесь же справит нужду.
Будет лето. Черным мелом дорогу расчертит
июль,
наша тень, обгоняя машины, перепрыгнет
поребрик
и станет плясать на проселке,
пока не провалится в ночь.
В этот час мы уснем,
раскрывая объятья
всем влюбленным и детям,
в перекрестном сладчайшем дыханьи,
в ленивом движенье ключиц
пятилетнего Павлика,
трехлетних Марины и Лены.
И под утро, задрав подбородки,
не порознь,
а вместе
вступим в ясные воды рассвета.
памяти А.П.
Я за тобой, цветущая сирень,
в ночь наклонюсь,
в отяжелевший воздух,
в пыльные ладони. А звезды
пускай допляшут
предрассветный круг
и допоют свое дрозды, пока малинник
не задрожит и не откроет список
проснувшихся, и пусть потом ресницы
стегают медленный дремотный свет.
А тот, кто нынче вычеркнут
из списка,
пускай проснется там, где и сирень
увядшая проснется...
О чем это шепчутся мертвые,
взявшись за руки и вверх
ногами влетая в объектив аппарата?
О ком плачут ангелы, сестры солдата,
утирая нарисованный жемчуг
крестами на полотняных платках?
По растоптанным в кровь галицийским полям
марширует пехота. Эти - в ров,
эти - в пух ковыля, головою к восходу.
Мы чем больше деремся,
тем больше награды!
Но летят и шумят пули огненные,
да и войска осталось немного,
замириться бы надо...
Ах, несчастная доля
несчастных солдатиков!
Уж он, Кайзер Вильгельм!
В феврале, наконец, погасили
окно на втором этаже.
Мальчик, врач скорой помощи,
вышел в подъезд покурить.
Потянуло, вот странно,
не дымом, а йодом, ребенок
заплакал на третьем,
за полупритворенной дверью
соседка стоит над хозяйкой,
а на кухне молчат половицы
и смешан с портретами сына
последний пасьянс на столе.
Как скрипели телеги,
как доспехи блестели
вполовину нежаркого солнца,
как теснились и пели
на тоненькой ветке дрозды,
как теснились и пели
горбатая чашка у локтя,
чаинки в остывшей воде,
карандаш под рукой -
до шести, до рассвета,
над долгой нерусской строкой
теснились и пели все громче.
Я ложился в узловатые корни травы
между Адамом и Евой,
и они обнимались через меня,
пока я летел сквозь полдень,
в опрокинутое небо,
чтобы проснуться обессиленным
их наготой.
Мы были позвонками
прошлогоднего августа
и несли на себе
долгие взгляды подростков,
наученных целоваться
и пьяных от запаха собственных подмышек.
Мы - это Адам, Ева и я,
целое лето влюбленные друг в друга.
Рифмуй, сентябрь, полупустой перрон,
пенсионера с термосом в руках,
механику небесных сфер, со скрипом
клонящихся в осенние созвездья.
Колесики погоды подкрути,
приподними литую гирьку ночи
до света, до верху, до вкусного ручья,
текущего поверх голов — в июль,
в июнь, в последнюю декаду мая...
Ю.П.
Поди, поживи без корысти,
когда, подравнявшись в строю,
мы выглядим, как альтруисты,
но выгоду помним свою.
И выгадать были б не против
в чужой бесполезной игре,
в капризных демаршах природы,
в оттаявшем январе.
Во всем, чтобы было как лучше,
и в сером проеме окна,
где плавает толстая туча,
но чем она станет для нас,
и в дождь или в снег обратится,
тому предстоит рассудить,
кто мелом подошвы ботинок
готов у себя набелить,
кто шагу не ступит бесследно,
и заданный спросит урок,
кто ласков, когда ты прилежен,
но если небрежен - суров,
кто мимо блокнотов и книжек
рукой, не стесненной ничем,
нескучные истины пишет
о сущности этих вещей.
Читать дальше