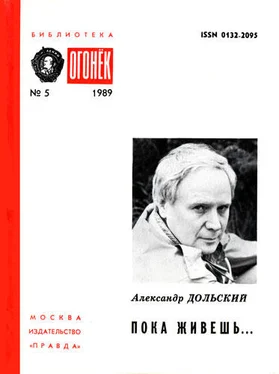Но нет здесь плоти без увечий, а сколько судеб пополам!
и пот летит по зеркалам от пируэтов бесконечных.
Носками врозь отроковицы спешат сквозь города бетон,
их аскетические лица, как лица маленьких мадонн.
Их ждут надежды и обманы и с плотью вечная борьба,
и в стае плыть на заднем плане их лебединая судьба.
Но время страсти не разрушит, искусству тяжкому поклон..
Вам — грациозные старушки, кордебалет былых времен.
«НЕТ В МИРЕ ВЫСШЕГО БЛАЖЕНСТВА...»
* * *
Нет в мире высшего блаженства,
чем осознание пути,
когда, достигнув совершенства,
ты все же вынужден уйти,
когда и сердцем и мышленьем
приемлешь равно мрак и свет,
когда легчают сожаленья
о пустоте минувших лет.
И нет лекарства в мире лучше,
от страха стать золой в золе,
чем уяснить, что ты лишь случай,
прекрасный случай на земле,
когда проводишь самых близких
в недосягаемую даль,
когда уже не знаешь риска,
а лишь терпенье и печаль,
когда войдешь два раза в реку,
на дне останешься сухим,
когда прощаешь человеку
его успехи и грехи,
когда по взгляду и по вздоху
поймешь, что сделалось с душой,
когда тебе с другими плохо,
а им с тобою хорошо.
«НЕТ, ЦЕНИТЬ НЕ МОЖЕМ МЫ...»
* * *
Нет, ценить не можем мы
того, что нам судьба послала.
Вот так Орфею было мало
вести любимую из тьмы.
Из нелюбви, как из тюрьмы,
мы убегаем с кем попало,
не повернув свой взгляд к началу,
забвеньем облегчив умы.
Но если осенью ненастной
или в другой какой-то срок
нам выпадет внезапно счастье,
мы вдруг умнеем от тревог
и, оглянувшись очень мудро,
опять одни встречаем утро.
«У ЗЕРКАЛА ТЫ БИТЫЙ ЧАС...»
* * *
У зеркала ты битый час
сидишь и портишь очень мило все,
чем природа одарила тебя,
что ценно без прикрас.
И примеряешь по сто раз
ты металлические вещи,
в зеркальной заводи трепещут
две золотые рыбки глаз.
О, женщины из всех веков!
Как вы стремитесь терпеливо
пленить безвкусных петухов,
любителей тонов крикливых.
Вот так же на фасаде храма
висит торговая реклама.
«Я ВСЕ ОТДАЛ БЫ, ЧТОБЫ ВЕРИТЬ...»
* * *
Я все отдал бы, чтобы верить
в твою измену, милый друг.
Я не боюсь тогда разлук,
когда осознана потеря,
и сомневаюсь в той же мере,
в какой горю от страшных мук,
но разорвать порочный круг
боюсь, себя в беде уверя.
И не решаюсь предложить
вопрос жестокий и постыдный.
О, как бы ясно было видно,
что делать — как на свете жить.
И мы молчим, молчим лукаво,
пока молчать имеем право.
Размечтались мы о правде, разохотились до чести.
переполнены газеты исцеляющей бедой.
И сидит историк тихий на своем доходном месте,
со страниц чужие слезы выметая бородой.
И стоят дома большие, где в огромных картотеках
прибавляется фамилий, прибавляется имен.
Что сказал, что спел когда-то, все до буквы, как в аптеке,
в эти клетки самый грустный, самый честный занесен.
И стоят дома поменьше, где приказчики культуры
и чиновники от прозы и поэзии корпят
и вершат судьбою духа сторожа номенклатуры,
в инженеры душ наметив поухватистей ребят.
Шахиншахские приходы за вранье в стихах и в прозе
охраняют от огласки через главное бюро...
Не коснется свежий ветер подмосковных мафиози.
С переделкинских маршрутов безнадежен поворот.
И дома другого сорта понаставлены по свету,
где во чреве бюрократов спят параграфы речей,
где у них за преступленья отбирают партбилеты —
индульгенции на подлость и повадки палачей.
И дома пажей болтливых, бессердечных, твердолобых,
где из мальчика с румянцем лепят хитрого жреца,
где готовится замена умирающим набобам,
чтоб властительная серость не увидела конца.
И стоят дома попроще, где врачи и инженеры,
ветераны справедливой и несправедливой битв,
наши матери и жены, и святые нашей веры —
все опальные поэты, сочинители молитв,
там, где рокеры, и барды, и рабочие, и дети,
и мадонны, и старухи, проходившие ГУЛАГ,
там, где теплится культура всех пределов и столетий,-
гарнизоны осажденных поднимают белый флаг.
Где эта улица, где этот дом,
с юности светлой знакомый?
Где эта барышня, что я влюблен?
О боже! работник райкома.
Читать дальше