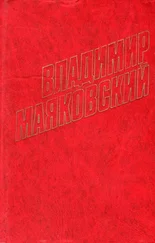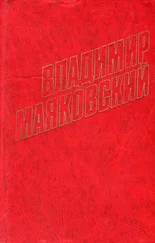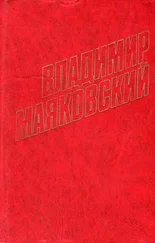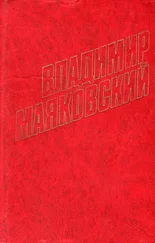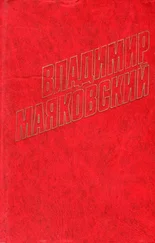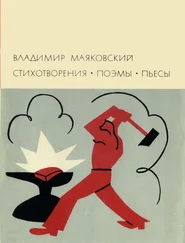Большое внимание уделялось конституциональным особенностям человека: фиксировались рост и вес, цвет глаз и волос, строение тела, состояние организма и т. д. Потом дело доходило до психомоторной и психосенсорной сферы, затем - до эмоционально-аффективной, волевой и интеллектуальной, до особенностей творческого процесса. Таким образом, учитывалось практически все: отношение к природе, людям, книгам, к собственному "я", пристрастия и фобии, повадки и привычки; интересовали работа, быт, половая жизнь, внимание, воображение, память...
Наконец, составлялось заключение по следующий параметрам: 1) Анализ влияния факторов среды на формирование данной личности; 2) Наследственность и ее особенности; 3) Характеристика конституциональных факторов; 4) Особенности сенсомоториума; 5) Анализ отдельных сторон личности (эмоционально-аффективной, волевой и интеллектуальной сфер) и их взаимодействие; 6) Особенности творчества данной личности; 7) Выделение основных особенностей характера данной личности, основного ее ядра.
В итоге возникало всестороннее описание человека, его подробнейший психологический портрет.
На основе чего составлялся такой портрет? Откуда брались сведения? Сотрудник института подробно изучал мемуарную и критическую литературу об исследуемом лице, его художественные произведения (в том числе, неопубликованные), письма, рисунки, фотографии и т. п. Желательно было ознакомиться с документами, относящимися к каждому периоду: начиная с образцов почерка, ученических тетрадей и кончая материалами по истории болезни и протоколом вскрытия...
Однако самые интересные и уникальные данные черпались из устного источника, из так называемых "бесед", которые проводили сотрудники Института с людьми из ближайшего окружения умершего гения. Родственников, друзей и знакомых интервьюировали по указанным в "Схеме исследования" вопросам. Содержание "бесед" записывалось, подробные ответы информантов систематизировались и вносились в итоговый "характерологический" документ. Именно эти "беседы", являвшиеся по сути разновидностью мемуаров, становились главным материалом для обобщений, иллюстраций и умозаключений специалистов.
Сведения, полученные как из устных, так и из других источников, перерабатывались и оформлялись в связный, достаточно большой по объему текст, содержащий всестороннее и уникальное описание исследуемого объекта. Этот текст в окончательном, литературно обработанном виде, по-видимому, сдавался в архив Института мозга - в качестве научной отчетности сотрудника. К сожалению, местонахождение архива Института мозга пока не выявлено. Однако подготовительные материалы к некоторым "делам" сохранились в семейном архиве Григория Израилевича Полякова (1903-1982), известного невролога, профессора, многие годы проработавшего в Институте мозга. В числе сохранившихся материалы, характеризующие В. Маяковского. Сам Г. И. Поляков непосредственно занимался собиранием сведений о поэте и проведением "бесед", систематизацией фактов и их осмыслением. Ему помогали и другие сотрудники Пантеона Института мозга - В. М. Василенко и Н. Г. Егоров[18]. Однако очевидно, что Г. И. Полякову в этой работе принадлежала ведущая роль.
Маяковский в Институте мозга
Решение собирать характерологические материалы о Маяковском было принято почти сразу после смерти поэта. Уже 21 апреля 1930 г. Институт Мозга обратился "ко всем близким и знакомым поэта с просьбой предоставить в его распоряжение все сведения, характеризующие В. Маяковского, а также соответствующие материалы: фото в различные периоды жизни, автографы, рисунки Маяковского, личные письма, записки и другие документы"[19].
Судя по упоминанию в очерке фотографий, хранящихся в архиве Института, и по анализу писем Маяковского к родным, это обращение возымело действие. Однако основная часть исследования пришлась, по-видимому, на более поздний срок. Ранняя из имеющихся в "деле" Маяковского "бесед" датирована 1933 г., последние проводились в ноябре 1936 г.
Всего в "деле" шесть "бесед". Дважды (в 1933 г. и в 1936 г.) был интервьюирован Осип Максимович Брик (1888-1945), близкий кругу футуристов литератор и теоретик культуры, взявший на себя роль издателя ранних произведений Маяковского, и один раз (тоже в 1936 г.) - Лили Юрьевна Брик (урожд. Каган Лия Урьевна; 1891-1978). Маяковский познакомился с семьей Бриков в июле 1915 г. Тогда же зародилась и чувство к Л.Ю. Брик. С тех пор "жизнь Маяковского и Бриков начала сливаться и в литературе, и в быту"[20]. На протяжении пятнадцати лет, вплоть до самоубийства в 1930 году, Маяковский и Брики были, по сути, одной семьей. Очевидно, что из окружения Маяковского Брики были самыми сведущими, самыми знающими его людьми. Не исключено, что "бесед" с Бриками было гораздо больше, но сохранилось лишь три.
Читать дальше