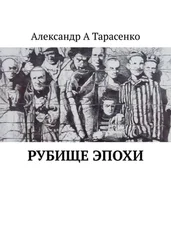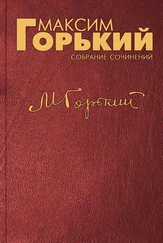Фанера, доски и картон,
шеренга дев неграциозных;
глотнуть бы пересохшим ртом
весь этот непродажный воздух!
И умирает старый шут
во всем ветрам открытом зале.
И неба синий парашют
висит над улицей Лассаля.
Бывает, барахлит забвенья
мгла подобно полевому телефону…
Таинственная женщина плыла
по расписному синему плафону.
А пламя подымало языки
и в сновиденья странные тянуло,
где отзвуки и нисхожденья гула,
где комнаты как в сказке высоки.
Пожалуй, что тогда мне было десять,
во мне еще не накопилась злость,
не в пушкинской, а в ильфовской Одессе
мне проживать в ту осень довелось.
Там было даже и кафе Фанкони,
нарпитовское стойбище мужей,
и небоскребы в восемь этажей,
но речь пойдет о расписном плафоне.
Летела – в складках, в драпировках вся,
очами похотливыми кося,
но сверх того не ведая корысти, –
мадам, должно быть, итальянской кисти.
Бинокль к глазам прильнет, как соль ко рту,
и сразу в приближеньи многократном –
бетонный мол, сродни рассветным пятнам,
и трубы разноцветные в порту.
Так сочетался этот Мир-навырост
с грядущим… Впрочем, это ничего!
Но более, но более всего
мне памятна тех дней морская сырость.
Она была повсюду и всегда,
цвела в подъездах животворной тенью,
сродни испепеленью и томленью
и некой сладковатостью горда.
С тех пор прошло немало лет и льдов,
но сырость эта ждет в мечтах опальных,
на лестницах приморских городов
и в тусклом свете комнат умывальных.
Но непрерывен времени поход,
он движется по месяцам угаслым…
Нагретым маслом пахнет теплоход
и вся судьба нагретым пахнет маслом.
Машинным маслом. Что за толчея
нам подтверждает непреложность мига!
Морская сырость – вотчина твоя,
Одесса, Феодосия и Рига.
Чем пахнет на заре Восточный Крым?
Чем пахнет на заре Бассейн Донецкий?
Чем пахнет время? Спячкою мертвецкой
иль пробужденьем? Мы – поговорим…
Был старый дом. О время, не тревожь
осколков воронцовского уюта!
Еще мне снится душная каюта,
Где с морем обручен Одесский Дож!
Во мне еще накапливалась злость
и ожиданий тщетное величье, –
не смог Всего Грядущего Обличье
провидеть я. Но кое-что сбылось.
Памяти Франческо Катто
На Украине Слободской
жил равнодушный итальянец,
он придавал граниту глянец
весьма умелою рукой,
сулил покойникам покой,
женил чахоточный румянец, –
седой ваятель-итальянец
на Украине Слободской.
Надгробных памятников мастер
почил и помер в свой черед,
теперь у смерти он во власти,
зато Искусство не умрет.
Торчат в расцвете неудобья,
хранящие холодный пыл,
многопудовые надгробья
и монументы без могил.
Так помер равнодушья латник,
ваятель мраморных девчат.
У самых врат катка «Печатник»
его изделия торчат.
«В этом Харькове, старом как мир…»
В этом Харькове, старом как мир,
в этом городе, в этом губернском,
в этом ветре степном, в этом резком,
были мы молодыми людьми.
Были мы молодыми людьми,
были мы гимназистами в блузах,
этот мир был так скромен и узок.
Ах, в своих самых юных конфузах,
в наших первых ребячливых музах
были мальчиками, черт возьми! —
были мы молодыми людьми!
Были барышнями, черт возьми!
Гимназистками в фартушках были!
Три реки в керосине и в иле
никуда не текли, черт возьми!
Никуда не текли, черт возьми!
Лопань, Харьков и Нетечь, они
триедины в одном недвижимом.
Было время подернуто дымом,
было время подкрашено гримом, —
вспоминая о самом любимом,
о блаженстве неповторимом,
о богатстве, ни с чем не сравнимом,
были мы молодыми людьми!
Было время – путем, непутем,
были дни в обывательском тесте,
и еще не пылали поместья,
вихрь не плакал голодным дитем, –
но из этого плача и ила,
из всего, что в судьбе нашей было,
из всего, что душа не забыла,
кровь всплеснулась, и сердце изныло,
и послышалось имя: Артем!
«Когда-то были детские обиды…»
Читать дальше
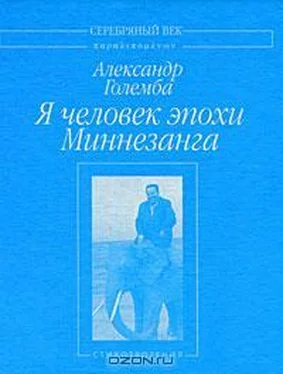
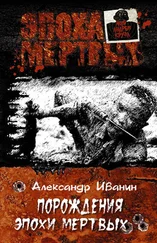
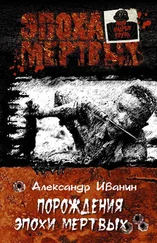





![Максим Осипов - Человек эпохи Возрождения [сборник]](/books/409687/maksim-osipov-chelovek-epohi-vozrozhdeniya-sbornik-thumb.webp)