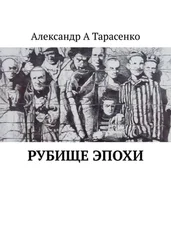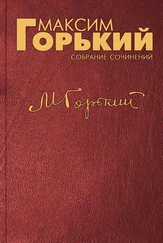«Деревья черные, как трефы…»
Деревья черные, как трефы.
Земля оголена
на всем пространстве от Мерефы
и до Люботина.
И не с беспечностью Эфеба –
резвясь как зрелый муж,
уже барахтается небо
в глубинах спелых луж.
И мимо зябнущего плеса,
вращаясь на весу,
проциркулируют колеса
локомотива «Су».
Блоха, прикидываясь Дафной,
заполнит зыбкий пруд.
Гудки завязнут в телеграфной
проводке – и замрут.
И над изменчивой личиной
сигнальных фонарей
грачиный гомон и галчиный,
иль галочный скорей.
И пробуждением Деметры
овеян вешний шлях,
замызганные километры
и галька в колеях.
И в неуемность окоема
еще до темноты
вплывут гектары чернозема,
как жирные киты.
Они помчатся в эстафете
за музыкой стиха.
Их прогарпунят на рассвете
кривые лемеха.
И устремляются в кочевья,
сопя, как ламантин,
китообразные деревья.
Мерефа-Люботин.
«За окнами снежная тьма…»
За окнами снежная тьма.
Россия считает расходы.
Как старые пароходы,
доходные стонут дома.
О, как описать эту жесть
с ковчегов нахохленных кровель?
О, как этот хлопьевый промельк
постичь, и понять, и прочесть?
Невольно поются стихи
на лад Северянина старый.
Поэмы гудят, как амбары,
а критик долдонит верхи.
Балконы, столбы, эркера,
угрюмые кариатиды,
отрады, тревоги, обиды,
сегодня, заутро, вчера,
угрюмые кариатиды,
балконы, столбы, эркера.
В квартирах арбатской судьбы
остатки модерна. Останки.
Чаев позабытых жестянки.
Иконки померкшей мольбы.
В столице иль на полустанке,
где сцепщик сцепляет гробы.
И люди, успевшие вмиг
пригубить не мед, как Вителлий,
а самый тот КУБОК МЕТЕЛЕЙ,
немыслимый КУБОК МЕТЕЛЕЙ,
что к слову поэта приник.
Шли хлопьев метельные своры
на штурм первозданного дня.
Была суетня, беготня.
Эпоха взрывала соборы,
металлом свой путь осеня.
Была наша доля легка,
еще наши очи сверкали,
и пальцы еще прилипали
к замызганной кнопке звонка…
«Я должен рассказать о том…»
Я должен рассказать о том,
как дождь неслышно входит в дом,
на цыпочках, как гном в легенде;
я должен повторить рассказ о том,
что в сотню тысяч раз ценней,
чем деньги или денди!
А здесь, в краю зеленых нив,
в краю, где шествует прилив,
прорвав гниющих водор о слей
завесу… По песку скользя,
мне прошлого забыть нельзя
или переложить на после.
Был город, град, вот он каков! –
обитель лестничных звонков,
тоска заплеванных фасадов;
досадуя на тьму и свет,
мы так скучали, будто нет
здесь солнца… Темно-шоколадов,
закат стучался к нам в окно,
и было, кажется, темно,
совсем темно… Был день как год
утрат, смятений и невзгод.
(И это всё? Непредставимо!)
А город, град, приют друзей
был безысходен, как музей,
и мямлил, словно пантомима.
I. «Возвращусь в ветвей безбрежья...»
Возвращусь в ветвей безбрежья,
в ненаглядные края,
где лежит Левобережье,
жизнь моя и смерть моя.
Вспомню всё, что было прежде,
всё, что в дымке бытия,
всё, в чем спит Левобережье,
жизнь моя и смерть моя!
Возвращусь туда, где трефы
опостылевших ветвей,
где с платформами Мерефы
слит усталый соловей.
Возвращусь туда, где снова
можно жить без полумер,
где на станции Основа –
Квитка, харьковский Гомер!
Был монахом этот Квитка,
а потом танцором стал,
а потом – такая пытка! –
не залез на пьедестал.
Ах, услуга! Ох, медвежья!
Эх, блеснула колея!
Чернозем. Левобережье.
Нет, не смерть, а жизнь моя!
II. «Левобережье. Нет другого...»
Левобережье. Нет другого.
Теряю счет годам.
Левобережье. Этот говор
я рельсам передам.
Левобережье. Мимо, мимо.
Дорога далека.
И только в сердце – горечь дыма
да исповедь гудка.
Левобережье. Зорко, зорко
впишись в былые дни —
и, ежели мешает шторка,
смахни иль отверни!
Воспой иные побережья,
но всё, но всё равно:
глядит мое Левобережье
в раскрытое окно.
В листвы взъерошенной мятеж я
уткнусь в чужом окне,
и всё ж мое Левобережье
всё будет сниться мне:
тот край, где годы – как минуты,
где быль – как синь-туман,
тот край, где суржик пресловутый
мил слуху поселян!
Читать дальше
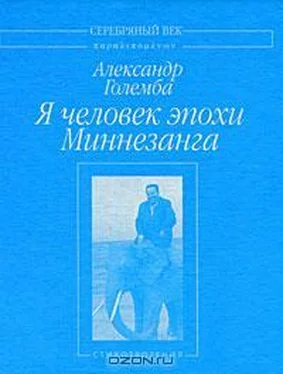
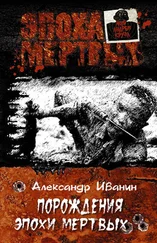
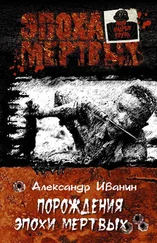





![Максим Осипов - Человек эпохи Возрождения [сборник]](/books/409687/maksim-osipov-chelovek-epohi-vozrozhdeniya-sbornik-thumb.webp)