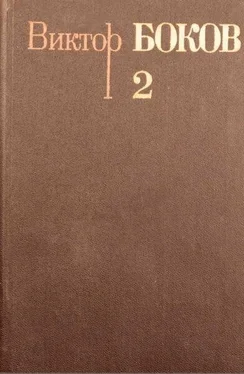В госпиталях валялся,
Но смерти не боялся,
Чуть отдышусь — и в бой,
На то и рядовой!
Болят мои раненья,
Но не на них равненье,
На молодых гляжу
И выправку держу.
Мне трудно, я не плачу.
И орденов не прячу,
Я их цепляю в ряд,
Иду, они звенят!
Мне жизнь еще не в тягость,
Она несет мне радость,
Я широко дышу,
А надо — я пляшу.
1969
На всех ветрах, на всех курганах,
Над ковылем, над полыном
Жду недругов Руси поганых,
Стою с недремлющим копьем.
Кто первый? Ты, Батый, с Кучумом?
А ну, давай! Гремят щиты,
И льется с шелестом и шумом
Кровь на курганные цветы.
Бежит Кучум! И это бегство
Запомнила степная ширь.
Народ мой русский, ты и в детстве,
В младенчестве был богатырь.
Кто следующий за Батыем?
Наполеон? Иди! Иди!
И ощетинилась Россия,
И ненависть огнем в груди.
Хлебнул Наполеон похлебки?
Отведал кислых русских щец?
С дороги прочь, иди по тропке,
Все кончено с тобой. Конец!
А кто еще там черной тучей
Скопился у границ Руси?
Перед бедою неминучей —
Пощады, Гитлер, не проси!
Сталь плакала, железо выло,
Горела волжская вода.
Да, это было, было, было,
Мы не забудем никогда!
1969
За зелеными эвкалиптами
В берег бьет многотонная тяжесть.
Как Василий Буслай за калиткою,
Выкобениваясь и куражась.
Просит маменька: — Брось дреколье,
Час не ровен, и голову снимут.
Кровь, болезный, польется рекою,
Грудь разрежут и сердце вынут.
Говорила тебе, что брага
Слишком долго была в бочонке,
Говорила, что пить не надо,
Что она не от бога, от черта.
Не послушался, простофиля,
Не считаешься ты со вдовою,
Люди добрые пьют из графина,
Ты — из братины с ендовою.
Ну, уймись, ну, поди на постелю,
Я прошу тебя Христом-богом.
— Не замай меня, я поспею
Похрапеть за твоим порогом.
Не тесни моей волюшки вольной,
Ты не смей надо мною глумиться,
Я оплечьем и поступью воин,
Мне подраться, как бабе умыться!
— Вася! Васенька! Свет Буслаич,
Ты в годах уже, ты почтенный.
— Что ты, мамка, все попусту лаешь,
Вон какой твой сынок буйно-пенный!
Сквозь намокшие ветви деревьев
Проступает рассвет рябоватый.
Вижу море в стальном оперенье,
Вижу витязя в серых латах.
Чуть знобит мои голые плечи,
Я стою и дышу озоном.
Вольный Новгород так далече,
Море — вот оно, под балконом!
1969
Когда светало, что-то мне взгрустнулось
Над сизым дымом медленных ракит.
Во мне Россия старая проснулась,
А новая давно уже не спит.
Я подошел к окну. Над полем росным
Подраненным крылом восток алел.
Задорожил я очень нашим прошлым,
Я им, как черной оспой, заболел.
И выплыло вчерашнее застолье,
Причалило подобно кораблю.
Меня пытал молоденький: — За что я,
Скажите мне, Россию так люблю?!
Он спрашивал доверчиво и тихо:
— Ты счастлив? — А глаза сверлят сверлом,—
Почем ты покупал, отец, фунт лиха?
— Ох, дорого!
— Не плачь, мы все вернем.
Его глаза пророчески горели,
Был молод он и добрым сердцем чист.
Он доложил мне: — Я уж две недели,
Уж две недели ровно — тракторист!
Сидели пожилые хлеборобы.
Что ни Иван, то пахарь, то герой.
Ни зависти в сердцах у них, ни злобы,
И слово простодушья — их пароль.
Мне нравилось застолье трактористов,
Собранье трудовых, российских плеч.
Здесь каждый, как оратор, был неистов
И каждый что-то силился изречь.
— Мы русские! — сказал который старше,—
Мы честные, не любим хитрецов.
А мускулы у нас играют с каши,
А головы свежи от огурцов.
— Вот ты писатель, — кто-то начал слева,—
Я «тыкаю» тебя, но ты прости.
Как думаешь, мотор без подогрева
В мороз и ветер можно завести?
О, сколько было милого лукавства,
С какой ехидцей нервничала бровь.
И сердце мне подсказывало часто:
— Ты не тушуйся, сам вопрос готовь!
— А что такое поле Куликово? —
Спросил и я. — Ответ мне можешь дать? —
Смутился тракторист: — Ты нам толково
Все объясни, тогда мы будем знать!
И замолчали пахари-коллеги,
И я взорлил над праздничным столом.
И зазвучало слово «печенеги»
Над пахотным воронежским селом.
Читать дальше