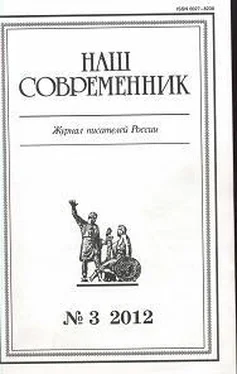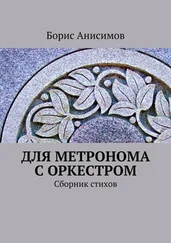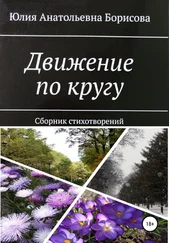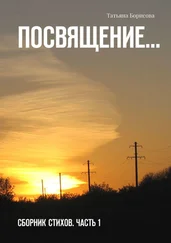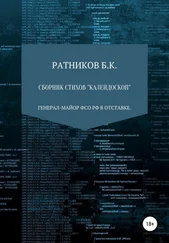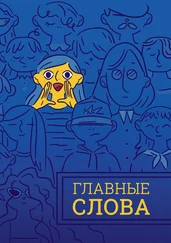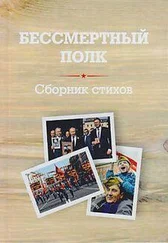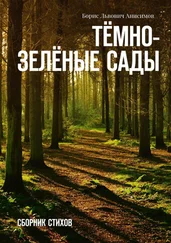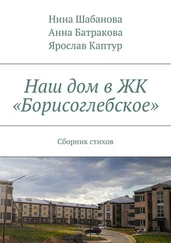Но средь каких подрайских жит,
Надеясь на талан,
Павло невидимо лежит
И рядом — Иоанн?
Да на Руси же на родной!
Быть может, у ветлы,
Куда приносит ветр ржаной
Пуха половы пострадной? —
Здесь, поминаемые мной,
Лежат мои хохлы.
Уж сколько лет наследный крик
Печёт мои уста:
Не вечный огнь — бессмертный хрип:
«За Родину! За Ста…»
По чёрточке, по звуку убывали
Их некогда роскошные черты
За то, что их сынов поубивали,
За то, что их мужья поумирали,
За то, что так красив и молод ты.
Пойдём к старухе, что подслеповато
Чужому внуку вяжет тёплый шарф.
Висят на стенках карточки покато
И карта — осиянный полушар.
Тревожные и радостные вести —
А уж вестям на всей Руси почёт —
Старухой уточняются на месте,
Берутся на взыскательный учёт.
Легко приемля юное веселье,
Бранит за легкомысленную прыть —
Не потому ли помнится доселе
Её рассказ?
Он вечен, может быть…
Зелёный дол. Протяжный клёкот стай.
Расстанный крест дороги-вековухи…
Ликует колокольчиковый май,
Покруживают пчёлы-повитухи.
Наверно, здесь — и более нигде! —
Всего вольнее древнее звучанье
Земли — и в пёстрой галочьей галде,
И в тучном строе стадного мычанья.
Коровий пастырь, в благостный простор
Картинно упираясь кнутовищем,
Хорош, что сокол: жёлтый взгляд остёр,
Но с тайной, как с ножом за голенищем.
Иду под небом Русским не спеша —
Куда из вольной воли торопиться?
Здесь выросла глазастая душа
На красных звонах памяти и ржицы.
А скрип колёсный, а смотрящий крик,
А звёздный вздох над святостью ночлега?
Всея природы шелестный дневник
От корня до распевного побега
Смальства хочу пропеть ли, пролистать,
Но что моё наивное хотенье
Земле, привыкшей сызмалу блистать
Узорочьем Божественного пенья?..
На красном листе поскользнулась душа,
Кроваво-берёзовой гарью дыша,
И, падая в даль пропаданья,
Сдержать не сумела рыданья.
Но тут же очнулась в сиятельной мгле —
Такой не знавала зимы на земле:
Снега без конца и без края
Под блещущей радугой рая.
И у зрила душенька: нет, не снега —
Сугробы теплыни, светлыни луга!
И радуги многая лета —
Как орденско-славная лента.
ФЁДОР СУХОВ. ОТ РОССИЙСКИХ БЕРЁЗ ВДАЛЕКЕ
К 90-летию Ф. Г. Сухова
«Впервые держу, озираю документ (паспорт), который мне предоставляет возможность на три месяца покинуть пределы своего Отечества и в некий день очутиться на Ближнем Востоке, в одной из арабских стран, а именно в Иордании.
В далёком мальчишестве в тёплую летнюю пору, чаще всего перед сенокосом, когда над высоко вымахнувшими травами случаются проливные дожди, когда раскатисто грохочет гром, пел я со своими сверстниками незатейливую песенку:
Дождик, дождик, перестань,
Я уеду в Иордань,
Богу помолиться,
Христу поклониться.
Разумеется, я тогда не знал, не мог знать, что такое Иордань, но я знал — зимой, в Крещенье некоторые обитатели нашего села окунали себя в озёрной проруби, а из незамерзающего родника даже малые ребятишки набирали в чисто вымытые бутылочки студёную воду, несли её в церковь святить. Приносил из своей моленной святую воду и мой дед, Пётр Матвеич, отдавал её бабушке, Анисье Максимовне, на сохранение. Потом садился и читал: „Тогда приходит Иисус от Галилеи на Иордан ко Иоанну креститеся от него…“ 1 июня 1990 года».
Строчки эти я выписала из общей тетради отца, в ней он начал писать свои записки — воспоминания под заглавием «Хождение за три моря», к сожалению, написаны всего две главы. Но поездка на Ближний Восток состоялась, я сопровождала отца в ней, с нами были и две моих дочери — Елизавета и Маргарита.
Эта было единственное путешествие Ф. Сухова за рубеж нашей Родины, не считая, конечно, военной поры, когда он, старший лейтенант, победоносно шествовал в составе Красной армии по дорогам Польши и Восточной Пруссии. Записок об этом интереснейшем путешествии отец не успел дописать, но остался небольшой цикл стихов, родившийся во время этого путешествия, в круизе Одесса-Латакия-Одесса на теплоходе «Башкирия» летом 1990 года.
Читать дальше