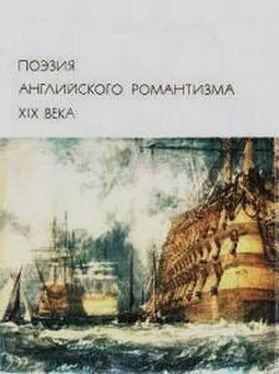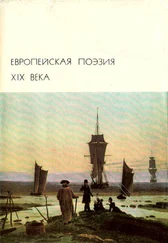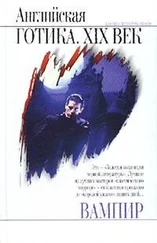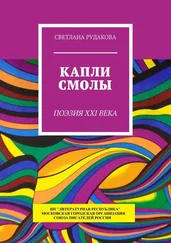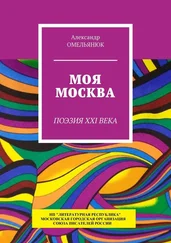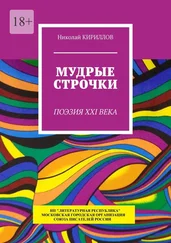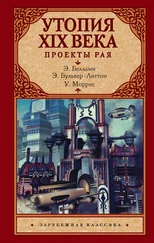Психея — одно из позднеантичных божеств, олицетворение души. Известна главным образом из романа Апулея «Золотой осел», кн. IV–VI, и в классический пантеон не входила; отсюда замечание Китса в строфе 3: «В семье бессмертных младшая она», «храма нет у ней». Согласно Апулею, Психея (Душа) смертна по рождению, но обрела бессмертие благодаря верности своему супругу Амуру (Любви). Начиная с эпохи Возрождения этот сюжет послужил темой многих значительных произведений в разных странах Европы; таковы фрески Рафаэля и его учеников на вилле Фарнезина в Риме, фрески Джулио Романо в палаццо дель Тэ в Мантуе, поэмы Лафонтена и Богдановича и многие другие произведения.
Ужель я грезил? Или наяву… — Ср. финал «Оды соловью».
…увидел сквозь листву // Два существа прекрасных… — Китс описывает парковую скульптурную группу; изображение Амура и Психеи было в конце XVIII — начале XIX в. излюбленным украшением пейзажных парков Англии и других стран (в России — Павловск, Царское село). Чаще всего, однако, они изображались иначе, чем у Китса: Психея, подняв над головою светильник, вглядывается в спящего Амура.
И Веспер, червь любовный небосвода… — Веспер, так называемая вечерняя (она же утренняя) звезда, сравнивается со светляком; в английской поэзии распространен сюжет о черве или светляке, нежно лелеемом влюбленным в него цветком; кроме того, Веспер — это планета Венера, названная в честь богини любви, отсюда эпитет «любовный».
В лесу своей души. — Изображение души в виде широкого пространства (чаще всего сада или леса с постройками, фонтанами и олицетворениями страстей, подчас сражающихся друг с другом) характерно для романов средневековья, а также для аллегорических поэм XVI в., наподобие «Королевы фей» Спенсера; однако описание этого фантастического пространства у Китса пронизано чисто романтическим ощущением природы и напоминает все тот же «английский парк», беседки которого часто назывались «храмами Дружбы»; в последних строках образ беседки явно переплетается с очертаниями спальни («И яркий факел, и окно в ночи, раскрытое для мальчика-Амура»), Амур прилетал к Психее «в ночи» и в полной темноте, «факел» служит не только светильником, напоминая о снятии запрета видеть его, он являлся также одним из атрибутов бога любви (ср.: Шекспир. Сонет 156). Таким образом, предмет оды у Китса как бы раздваивается: Душа (Психея) живет в душе, как своего рода «душа души», если использовать выражение Державина. В этом и раскрывается идея стихотворения: Китс поэтизирует в образе Психеи не вообще духовный мир человека, но особую нежность, душевность этого мира.
Дриады — духи деревьев в греческой мифологии; представлялись в образе прекрасных девушек.
Ода праздности. — Опубликована в 1848 году. В одном из писем в марте 1819 года Китс писал: «В это утро у меня своего рода ленивое и крайне беззаботное настроение; я тоскую после одной-двух строф Томпсонова «За́мка праздности». Мои страсти спят из-за того, что я продремал примерно до 11-ти, и почувствовал сильную слабость, и был в трех шагах от обморока, — если бы у меня были зубы из жемчуга и дыхание лилейное, я назвал бы это истомой, но поскольку я — это только я, я должен назвать это ленью. […] Поэзия, Честолюбие, Любовь — лики их беспечальны; вот они проходили мимо меня: они скорее напоминают фигуры на греческой вазе — мужскую и две женские; не видимые никому, кроме меня. Это — единственное счастье, и это редкий пример превосходства всепобеждающего духа».
Порядок строф в издании 1848 года (посмертном) был следующим: строфа 111 помещена предпоследней, как пронумеровано в копии, использованной для издания, однако порядок самих строф там был таков: 1, 2, 5, 6. 4, 3. По-видимому, таков был первоначальный порядок… Нынешний — реконструкция текстологов. По всей вероятности, три появления трех фигур следует понимать следующим образом: «Утро» (строфа 1), «Зрелый час» (строфа 2), «Полдень» (строфа 3) — это разные возрасты, начиная с детства.
Ода соловью. — Опубликована впервые в «Анналах изящных искусств» в июле 1819 года. Если в других одах (в «Оде Меланхолии», в частности, Китс обращается к читателю (к некоему «ты»), говоря ему о меланхолии, то здесь он обращается к соловью, говоря «ты» — ему. Уже в самом слове «соловей» (nightigale) заключено слово «ночь» (night), поэтому английскому читателю в большей мере, чем русскому, ясно, что эта ода — ноктюрн. Для Китса характерен в этой оде своеобразный «подхват» слова из строфы в строфу.
Читать дальше