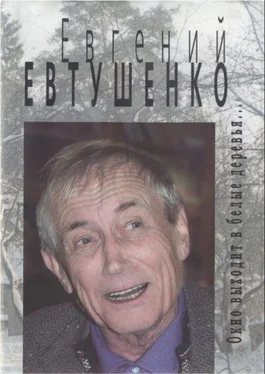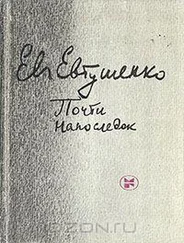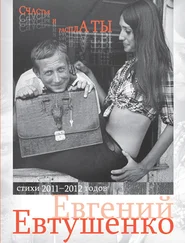Нуль Толстому! Выискался гений!
Нуль Толстому! Жирный! Вуаля!
Тем, кто выше всяких измерений,
нуль поставить — праздник для нуля.
А Толстой по улицам гуляет,
отпустив орловский выезд свой,
а Толстой штиблетами гоняет
тополиный пух на мостовой.
Будут еще слава и доносы,
будут и от церкви отлучать.
Но настанет время — на вопросы
граф Толстой захочет отвечать!
А пьянчужка в драной бабьей кофте
вслед ему грозится кулаком:
«Мы еще тебя, графьеныш, к ногтю».
Эх, дурила, знал бы ты — о ком…
Лучшие из русского дворянства —
фрак ни на одном не мешковат! —
лишь играли в пьянство-дуэлянтство,
тонко соблюдая машкерад.
Были те повесы и кутилы
мудрецы в тиши библиотек.
Были в двадцать лет не инфантильны —
это вам не следующий век!
Мужиком никто не притворялся,
и, целуя бледный луч клинка,
лучшие из русского дворянства
шли на эшафот за мужика.
До сих пор над русскими полями
в заржавелый колокол небес
ветер бьет нетленными телами
дерзостных повешенных повес.
Вы не дорожили головою,
и за доблесть вечный вам почет.
Это вашей кровью голубою
наша Волга-матушка течет!
И за ваше гордое буянство —
вам, любившим тройки и цыган,
лучшие из русского дворянства, —
слава от рабочих и крестьян!
Какой искристый легкий скрип
сапожек детских по снежку,
какой счастливый детский вскрик
о том, что белка на суку.
Какой пречистый Божий день,
когда с тобой ребенок твой,
и голубая его тень
скользит по снегу за тобой.
Ребенок взрослым не чета.
Он как упрек природы нам.
Жизнь без ребенка — нищета.
С ребенком — ты ребенок сам.
Глаза ребенка так блестят,
как будто в будущем гостят.
Слова ребенка так свежи,
как будто в мире нету лжи.
В ребенке дух бунтовщика.
Он словно жизнь — вся, целиком,
и дышит детская щека
морозом, солнцем, молоком.
Щека ребенка пахнет так,
как пахнет стружками верстак,
и как черемуховый сад,
и как арбуза алый взгляд,
и как пастуший козий сыр, —
как весь прекрасный вечный мир,
где так смешались яд и мед,
где тот, кто не ребенок, — мертв.
Ноябрь 1971
Простая песенка Булата
всегда со мной.
Она ни в чем не виновата
перед страной.
Поставлю старенькую запись
и ощущу
к надеждам юношеским зависть,
и загрущу.
Где в пыльных шлемах комиссары?
Нет ничего,
и что-то в нас под корень самый
подсечено.
Все изменилось: жизнь и люди,
любимой взгляд,
и лишь оскомина иллюзий
во рту, как яд.
Нас эта песенка будила,
открыв глаза.
Она по проволоке ходила,
и даже — за.
Эпоха петь нас подбивала.
Толкает вспять.
Не запевалы — подпевалы
нужны опять.
Надежд обманутых обломки
всосала грязь.
Пересыхая, рвется пленка,
как с прошлым связь.
Но ты, мой сын, в пыли архивов
иной Руси
найди тот голос, чуть охриплый,
и воскреси.
Он зазвучит из дальней дали
сквозь все пласты,
и ты пойми, как мы страдали,
и нас прости.
1971
Написано сразу после того, как Б. Окуджава был исключен из партии московской писательской организацией и ему грозило отлучение и от Союза писателей. Подробно эта история описана в моей книге «Волчий паспорт», в главе «Заходи, у меня есть джонджоли…» (М., «Вагриус», 1998, с. 497–503).
Играют святые джаза.
Качается в такт седина,
и старость, конечно, ужасна,
но старость, как юность, одна.
Грустна стариковская юркость,
но юности старость юней,
когда поумневшая юность
ударит по клавишам в ней.
Похожая на повариху,
мулатка наперекосяк
стучит по рояльчику лихо,
и пляшет он, черный толстяк.
К зеленым юнцам не ревнуя,
чудит на трубе старичок,
и падает в кружку пивную
отстегнутый воротничок.
Сосед накренился недужно,
но с хитрой шалавинкой глаз —
как пышненькую хохотушку,
пощипывает контрабас.
Ударника руки балетны.
Где старость в седом сорванце?
Улыбка, как белая леди,
танцует на черном лице.
Читать дальше