А дальше, а дальше — как много
людей на Московском тракту!
Идет бесконечно дорога —
в Иркутск, в Забайкалье, в Читу.
Волконская и Трубецкая,
чьи жизни в едино слиты.
«Я тоже хочу быть такая», —
мечтая, подумала ты…
Сбылось. Не Сибирь. Заграница.
Шанхай. Сан-Франциско. Харбин.
Знакомые, прежние лица,
лишь больше морщин и седин.
Лишь тише, покорнее поступь
и голос слабей и тускней,
лишь, сгорбившись, сбавили росту.
А думы — как птицы над ней —
над родиной — пеньем хорала
под звон легендарной Москвы:
«Вы тоже, вы тоже с Урала?
Из Лысьвы? — подумайте вы!
А помните серые кручи
и синюю реку у ног?
А помните, — девочка учит
про Альпы и Анды урок?»
Тяжелые жизни уроки.
Мечтанья сменились теперь
в глазах опечаленно строгих
застывшею болью потерь.
1933
По синим обоям
разбросаны желтые маки.
Нам грустно обоим,
но что же поделаешь, друг?
Тоски не развеют
волшебники старые маги,
и добрые феи
с участьем не встанут вокруг.
Суровые лица
со мной и бездушные боги.
Ты — в шумной столице
встаешь на вечерней заре.
Мы Бога просили —
(Как горестно быть одиноким!) —
о милой России,
о встрече на нашей земле.
Но я, как и прежде,
скитаюсь по Азии древней.
Цветные одежды.
Кумирни. Пустыни. Дворцы.
Живу, наблюдая.
А жизнь настоящая дремлет.
А в марте, подтаяв,
вниз падают с крыш леденцы.
И где-нибудь дома,
под самой Москвою в усадьбе —
под крышею дома
две ласточки кличут подруг.
Но только — не гнуться!
Поверь, все печальное — сзади.
Сумей улыбнуться,
чтоб вдруг не расплакаться, друг!
1933
Кто там поет? Кто там поет так нежно?
Как о хрусталь звенит вода порой…
Кто синий плат перетянул над бездной,
чей звездный край светлеет над горой?
Это — снега… Овладевает холод.
Мрак и озноб… Темнее часа нет…
Но кто поет? Как голос свеж и молод!
Это — заря. О, милый друг, — рассвет!
Вспыхнули враз — точно огни цветами.
Звезды горят на ледяных цветах.
Светлая твердь, как океан, над нами.
Щебет вокруг — голубокрылых птах.
Это принес мне в жуткий час тревоги —
звездный мой луч — твой голосок, Сибирь.
Мой ветерок, мой ветер синеокий,
горных дорог веселый поводырь!
1935
Дыханье далекое Гоби
с монгольских струится песков.
Нависшие серые хлопья
тяжелых парных облаков.
Как парус натянутый, ветер —
трепещущий и буревой.
И тонок, и строен, и светел
рог месяца над синевой.
Какая весенняя милость!
Как вечер прекрасен и росл!
Душа, охмелев, притаилась.
Снег падает. Будет мороз.
Но эти минуты до стужи —
родны, и грустны, и близки,
как думы деревьев, как души,
как в девственном лубе — ростки.
Когда-нибудь пышно развесят
деревья плоды, веселясь…
Свети надо мной, полумесяц! —
далекая с предками связь!..
Февраль 1935
Мы будем пить пиво
в китайской лавчонке,
где фрукты и гвозди
лежат меж сластей.
Смотри, как красиво
у острова джонки
слепились, как грозди,
в ажуре сетей!..
Рыбацкая воля,
купцовая леность,
буддийская вечность
и желтый закат.
И нежные зори.
Кристальность. Нетленность.
Нирвана. Беспечность.
Нефрит и агат.
Но пенится пиво
из западных бочек —
студенческих игр и
веселья завет.
Мы пьем торопливо.
Рот жаждет и хочет —
на час ли, на миг ли —
вернуть, чего нет:
шумливые годы,
звенящее время,
поющую юность
не пьяненький джаз…
— Ты снова про годы,
про время и бремя?
За старую… юность?
А я — за сейчас!
1938
Как пчелы и осы, звенели, жужжали и скрипки, и лютни,
и ярко в цветах утопало, вздыхая в дремоте, Ханьчжоу.
И жизнь, что пред этим казалась оскаленных скал бесприютней,
цвела, распускаясь нарядно, и пышно, и сказочно ново.
И в зеркале вод отражались священные древние храмы.
Но вдруг отраженья скривились, в ребристые сморщились складки,
как будто под пламенным солнцем нахмурились древние ламы
да так и остались в морщинах… И несся мучительно сладкий
Читать дальше








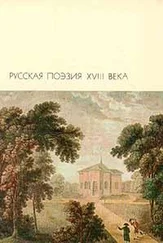

![Дун Си - Слова, упавшие в воду. Современная поэзия Гуанси [антология]](/books/423808/dun-si-slova-upavshie-v-vodu-sovremennaya-poeziya-g-thumb.webp)

