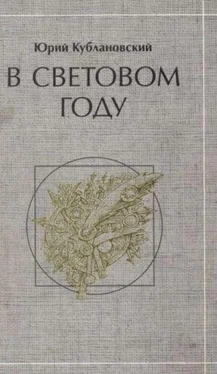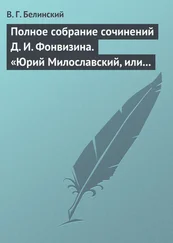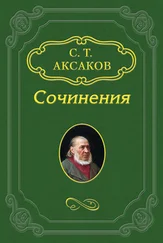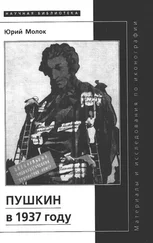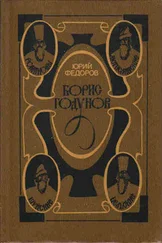Летучей мыши
над зыбью крыш
в серчающем гитар рыдании расслышать
доступно лишь
последнее прости — неуловимой массе
воды в горсти,
айве с оскоминой на скомканном атласе
последнее прости.
Дождь — кровь священная, вдруг пролитая в схватке
пространства невпрогляд
с прозрачным временем.
И приторны посадки
левкоев у оград.
«Я не схимник, спустившийся с гор…»
Я не схимник, спустившийся с гор
и вступивший в немой разговор
с непривыкшей к смирению речкой,
что о камни дробится в упор
и бахвалится царской уздечкой;
нет, под темные залежи туч
не спускался я засветло с круч,
не дремал на ржавеющем камне,
подставляя морщины под луч —
эта благость совсем не нужна мне!
Вижу, ты разглядела насквозь
достоверность рассказанной байки,
и боюсь, как застенчивый гость,
пятерню запускающий в гроздь,
надоесть терпеливой хозяйке.
Где пришелся один на двоих
огоньками усеянный вечер,
я лишь отзвук приказов твоих,
верный отблеск зрачков золотых
— и поэтому так переменчив.
I
Зной, напоивший всех скорбящих,
и скалы, и залив,
слабей в тени плодоносящих,
и нас, и пращуров
кормящих приземистых олив.
Как вдруг — ссыпаться начал гравий
с кренящейся земли,
перекрывая спевку гарпий
с сиренами вдали.
…Ты исподлобья озираешь
встревоженную мать.
Ты вожделение внушаешь
тому — как ты не понимаешь,
кто дал обет молчать.
И он идет готовной тенью
буквально по пятам
к священному захороненью,
где ящерка взывает к мщенью,
пригревшаяся там.
II
Пилад всё верно понимает,
но где его протест,
когда в грудь матери вонзает
клинок Орест?
Зовет и стонет Клитемнестра,
стенает и скулит.
А на обломках алебастра
безмолвствует Пилад.
Он словно поглощает звуки
Электре вопреки.
Орест в потоке моет руки.
Вы дети и враги
на плоскогорьях ойкумены,
где зной еще темней
и столько пышной рыжей пены
в отстойниках камней.
«Помнишь — вроде котлована…»
Помнишь — вроде котлована
капище в грозу,
в память Максимилиана
первую слезу…
Максимилиан Волошин,
киммерийский жрец,
сердоликовых горошин
любодей-истец.
Впрямь с мешком из-под картошки
схож его хитон,
по вискам волос сережки
треплет аквилон.
Гость, которого не ждали,
вновь пришел на свет
откопать своих сандалий
архаичный след.
Ту находку на сыпучей
тропке в свой черед
заждались в разбухшей туче
тонны пленных вод.
…………………………..
Ели крабов, крыли власти,
по лбу шла тесьма.
За столом кипели страсти
странные весьма.
На любительском спектакле
бесконечном том
как не спутать было паклю
с золотым руном?
И никто не знал, совея
от избытка муз:
Феодосия — Вандея,
столп — а не искус.
У ЭВКСИНСКОГО ПОНТА [1] Из Крымского дневника 1980 года.
Тут и Феодосия-голубка
гулит соль из прибережных чаш,
и на ощупь твердая Алупка,
и предатель родины Сиваш.
I
Весь воспаряющий над Черноморьем Крым
в заплатах дымчато-лиловых:
и дамы смуглые, берущие калым
с любовников бритоголовых,
и честно пашущий кораблик вдалеке,
уподоблённый блесткой точке,
где мака дикого на черепе-скале
оранжевые лоскуточки,
и камни пегие, подобно тушкам птиц,
и пляж с пьянчугой-красноярцем,
и пышный сосен мех, длиннее игл и спиц
— над белой осыпью и кварцем.
Здесь снова испытать улыбчивый испуг
на циклопической ступени
тропой сыпучею — стопа в стопу
придут однажды наши тени.
II
Испарения ирисов, роз
и мираж аюдагского мыса.
Ливадийский бочоночный воск
опечатал врата Парадиза.
И от йодистой знойной воды
манит тенью татарская арка.
Как обветрились у бороды
и в подглазьях морщины монарха.
Заломил, задробил соловей,
заглушая зазывное: «Ники!»
— относимое ветром левей
всей социалистической клики.
…Не задаром дарует Господь:
и на кортике крабью чеканку,
и лозу, и любезную плоть,
и у белого мола стоянку,
и грузинской дороги пенал,
и казачью Украйну воловью,
и Тобольск, и свинцовый Урал
с голубою емелькиной кровью.
Читать дальше