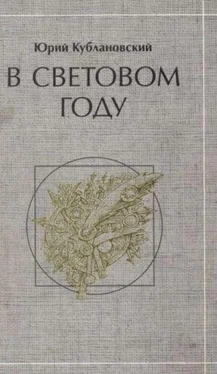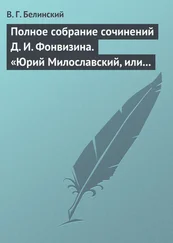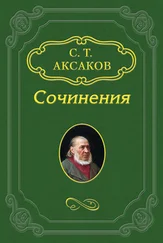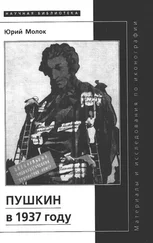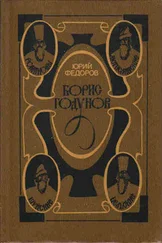Я видел, ты одна над схваткою была
решительных идей с правами человека,
но вдруг расслабилась — и чуть не родила,
пока неистово гремела дискотека.
……………………………………………
Есть в диалектике еще один закон,
который нарушать борцам не должно всуе:
тот быстро в правый катится уклон,
кто после первых битв раскис и комплексует.
А если так, то чем же можем мы
помочь безграмотным в большой политучебе,
я — с розовым бинтом, подобием чалмы,
и ты — с младенцем, плачущим в утробе?
1969, 1999
В московском ханстве
в иные дни
я жил в пространстве
вне времени.
Там каждый нытик
и раздолбай,
поддав, политик
и краснобай.
Служа в каптерках,
читал труды.
Шагал в опорках
туды-сюды,
стихосложеньем
греша порой.
Месторожденья
над головой
миров мерцали:
их прииски,
казалось, звали
в свои пески.
Сорваться б с вахты
и — в аккурат
в иные шахты
иных пенат…
И жребий выпал
не как-нибудь:
с Отчизной выбрал
я третий путь.
Путь полудённым
проселком — в синь
к холмам взвихренным
седых пустынь,
чтоб насыщаясь
сухим пайком
и защищая
лицо платком,
там на потребу
сквозной космической тоске
Аддис-Абебу
свою построить на песке.
Доныне не умер,
но где-то на линии есть
блуждающий зуммер,
твою добывающий весть .
Постой… не узнаю… простужена?
Кичиться техники успехами
не стоит, ежели нарушена
такими тишина помехами.
Как будто говоришь из Скифии,
а заодно с тобой на линии
мегеры, фурии и пифии,
сирены, гарпии, эринии,
озвученные не Овидием,
а кем-то из другого ряда.
Да, я горжусь своим развитием,
хоть, слышу, ты ему не рада.
Звонок блокадника из города,
который много лет в осаде:
сплав послушания и гонора,
наката с просьбой о пощаде.
Про баснословную коллизию
я слушал бы, не смея пикнуть,
но в виртуальный твой Элизиум,
как хочешь, не могу проникнуть.
Нет, нет, на рычажок из никеля
не нажимай, срывая ярость
на аховом комфорте флигеля,
где ты когда-то обреталась.
Забыть про свистопляску с ценами
и расквартировать бы снова
наш маленький отряд под стенами
Борисоглебска ли, Ростова…
И скоро снега торопливые
завалят басменные хлопья
округу, астры незлобивые
и полустертые надгробья
в их сочетании таинственном.
Дозволь, смирясь с моим решеньем,
мне сделаться твоим единственным —
на расстояньи — утешеньем.
Затихни, как перед разлукою
после отказа от гражданства.
А я возьму и убаюкаю
пучину черную пространства.
Всегда окраска Хамелеона
на дню меняется много раз:
то голубые морщины склона,
а то песочные как сейчас.
Ты хрипловата, и я басистый,
и всю дорогу до моря нас
пас целый выводок шелковистых
пугливых бабочек в ранний час.
Палило солнце огнем кремаций.
Сорили гривнами кто как мог,
хмелил поелику дух акаций,
алиготе, можжевельник, дрок,
йод спящей массы аквамарина.
Автобус жабрами дребезжал.
«А я люблю Александра Грина».
А я не рыпался, поддержал.
И лишь в мозгу кое-как крутилось,
что зло вовсю наступает и
его количество уплотнилось,
и сдали Косово холуи.
Стволы в лохмотьях седой коросты
и виноградники без теней,
напоминающие погосты
военных дней.
Крым не украинский, не татарский
и не кацапский — среди зимы
в платках повязанных по-корсарски
тому залогом на фотке мы.
1999
В крымском мраке, его растревожа,
ты одна конденсируешь свет,
а короткою стрижкою схожа
с добровольцем осьмнадцати лет.
Впрочем, надо бы всё по порядку:
посеревшую фотку боюсь
потерять я твою — как загадку,
над которою всё еще бьюсь.
Ведь и сам выцветаю, носивший
там рубашку, похожую на
гимнастерку, и жадно любивший
опрокинуть стаканчик вина.
Не из тех мы, кто выправив ксивы,
занимают купе на двоих,
а потом берегут негативы
неосмысленных странствий своих.
Но сюда, задыхаясь от жажды
и боязни на старости лет,
я вернусь неизбежно однажды
и руками вопьюсь в парапет,
понимая, что где-нибудь рядом,
неземное мерцанье тая,
притаился на дне небогатом
между створ перламутровый
атом от щедрот твоего бытия.
Читать дальше