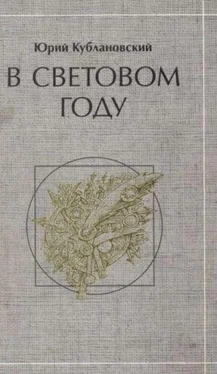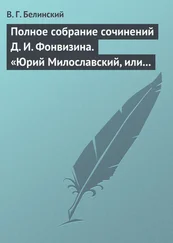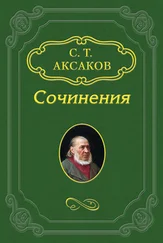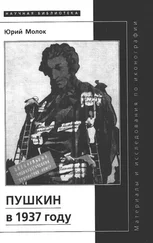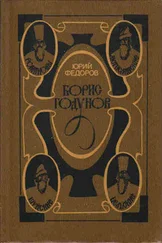Ветер продолжил тему — тему без вариаций
с самым простым рефреном: зиждительным люблю .
Осень придет с обвальным паводком девальваций:
туго придется йене, тугрику и рублю.
А у тебя прикрыта бусами из нефрита
схожая с материнской дряблость между ключиц.
Чуткого театрала сделай из неофита,
буду читать программки вместо передовиц.
То бишь аристократа сделай из демократа.
Станет моим заданьем впредь бормотанье строк —
оберег против века вяжущего, наката
хлама через порог.
20 августа 1998
«Я давно гощу не вдали, а дома…»
Я давно гощу не вдали, а дома,
словно жду у блёсткой воды парома.
И несут, с зимовий вернувшись, птицы
про границы родины небылицы.
Расторопно выхватить смысл из строчки
потрудней бывает, чем сельдь из бочки:
в каждом слоге солоно, грозно, кисло,
и за всем этим — самостоянье смысла.
Но давно изъятый из обращения,
тем не менее я ищу общения.
Перекатная пусть подскажет голь мне,
чем кормить лебедей в Стокгольме.
А уж мы поделимся без утаек,
чем в Венеции — сизарей и чаек;
что теперь к отечеству — тест на вшивость
побеждает: ревность или брезгливость.
Ночью звезды в фокусе, то бишь в силе,
пусть расскажут про бытие в могиле,
а когда не в фокусе, как помажут
по губам сиянием — пусть расскажут.
…Пусть крутой с настигшею пулей в брюхе
отойдет не с мыслью о потаскухе,
а припомнив сбитого им когда-то
моего кота — и дыхнет сипато.
11. V. 1999
Пишу, будто попусту брешу
про давние наши шу-шу,
как будто отправить депешу
тебе, задыхаясь, спешу.
Как в годы застоя, желанна
и в годы убойных реформ.
И розовый персик Сезанна
всё с той же неровностью форм.
За четверть без малого века
я, видимо, стал вообще
прохожим с лицом имярека
в потертом на сгибах плаще.
Тебе же дается по вере
всё новую брать высоту,
ты там у себя в ноосфере
всегда на слуху, на свету.
Нам было не просто ужиться,
ведь жить — означает одно:
всё глубже и глубже ложиться,
всё глубже ложиться на дно.
…Когда же ты мысленным взором
прочтешь, изменяясь в лице,
о белого света и скором
и необратимом конце,
нахлынувший ветер своими
холстами тотчас
возьмется сырыми,
как мумий, спеленывать нас.
Порт пяти неизвестных морей,
ставший каждому россу в обузу.
Это ты за гармошкой дверей
с остановки отчалила к вузу.
И хурма на одном из лотков
зазывавшего нас ибрагима
с огурцами персидских платков
золотистой окраской сравнима.
…В эту зиму по белой траве
научился бесшумно бродить я,
всё тасуя в своей голове
недомолвки твои и открытья.
Говори, говори, говори,
почему была столь тороплива,
почему от зари до зари
в горле горлица спит сиротливо?
Не хмелеть бы на первом глотке,
соглашаясь с любой небылицей,
а подольше побыть на катке
и потом помечтать над страницей.
Повернем-ка, мой ангел, назад,
чуть не в детства ангину и смуту,
чтобы стало как раз в аккурат
торопить дорогую минуту.
Поток пространства из поймы времени
вдруг вышел и — затопил до темени,
помазав илом мои седины
и не сполна приоткрыв глубины,
чью толщь не просто измерить лотом,
о чем поет, обливаясь потом,
ногою дергая, бедный Пресли —
и нет бесшумнее этой песни.
То наша молодость — юность то бишь,
сперва растратишь — потом накопишь:
телодвижений, изображений
на старость хватит, как сбережений,
и мне, одетому как придется,
и той, которая отзовется
в наш первый день до поры холодный
и вдень последний бракоразводный.
А между ними — дней мотыльковых
неисчислимая вереница,
куда бы ищущих бестолково
переметнуться, переселиться.
Вернее, в царстве глубоководном,
где очертанья смутны и зыбки,
они свободны,
как стаи там мельтешащей рыбки.
…Когда мы заполночь на Таганке
искали выпивку на стоянке,
ты соглашалась, сестра по классу,
что время брать не тебя, а кассу.
И зыбь дождя покрывала трассу.
Все звуки улицы, коридора
у нас в берлоге; но до упора
мы спали, не озаботясь прежде
о малонужной сырой одежде.
Читать дальше