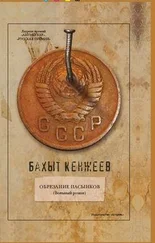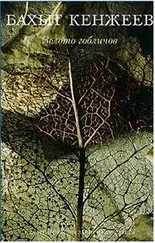«Я привык просыпаться один в постели». «Мой голос был груб
и угрюм, но горек». «Я знал, твой закон – что дышло».
«Я смотрел по утрам на дым из петербургских
фабричных труб».
«Я стоял на коленях, плача». «Я пробовал, но не вышло».
«…как обычно, один среди снежных заносов…»
…как обычно, один среди снежных заносов —
засиделся не помнящий дней и часов
мой обиженный, бывший коллега философ,
а точнее сказать – философ.
Он отчётливо знает, что окунь не птица,
что уран тяжелее свинца,
коктебельский рапан не умеет молиться,
а у времени нету лица.
И под утро ему достоверно известно,
что с бутылки портвейна не осоловеть,
что баптистская церковь – Христова невеста,
а лемур – это бывший медведь.
Ибо всякий товарищ, воркующий хмуро,
в непременное небо глядит,
и уйдут, повинуясь законам натуры,
и полковник, и врач, и пиит,
возопив о печали и радости прежней,
до конца перещупав, как некогда я,
на предмет толщины и синтетики грешной
беззакатную ткань бытия.
«Майору заметно за сорок – он право на льготный проезд…»
Майору заметно за сорок – он право на льготный проезд
проводит в простых разговорах и мёртвую курицу ест —
а поезд влачится степями непахаными, целясь в зенит,
и ложечка в чайном стакане – пластмассовая – не звенит.
Курить. На обшарпанной станции
покупать помидоры и хлеб.
Сойтись, усомниться, расстаться. И странствовать.
Как он нелеп,
когда из мятежных провинций привозит, угрюм и упрям,
ненужные, в общем, гостинцы печальным своим дочерям!
А я ему: «Гни свою линию, военный, пытайся, терпи —
не сам ли я пыльной полынью пророс в прикаспийской степи?
Смотри, как на горной окраине отчизны, где полночь густа,
спят кости убитых и раненых без памятника и креста —
где дом моей музыки аховой, скрипящей на все лады?
Откуда соломкою маковой присыпаны наши следы?» —
«А может быть, выпьем?» – «Не хочется». Молчать
и качать головой —
фонарь путевой обходчицы да встречного поезда вой…
«Я стою на ветру, а в руке адресок…»
Я стою на ветру, а в руке адресок,
переписанный наскоро, наискосок,
а январь сухорук, и февраль кривоног,
и юродивый март невысок —
я стою у метро, я хочу шаурмы,
я невооружённый на форум
не хочу, потому что устал от зимы.
Что твердите вы, дети, взволнованным хором
Что вы мне посоветуете наперебой,
от чего отговаривать станете? Я бы жил да
жил, с человеком менялся судьбой,
и дышал этим воздухом слабым —
этим варевом волглым и грешным, пока
пар дымит из подземного устья,
и обратные братья его – облака —
отдыхают в своём захолустье,
и закрою глаза, и обижусь, и пусть
никого не найду. Никого не дождусь.
И шепну: о моя золотая!
До свидания, дети. Воздушный ли шар,
или всё-таки я отшумел, отдышал,
книжки тощие переплетая?
«В небесах оскаленных огненный всадник несётся во весь опор…»
В небесах оскаленных огненный всадник несётся
во весь опор,
а у меня – тлеет под сквозняком запах старого табака
и лимонной корки.
Славное было начало, добрый топор, только с известных пор
там, где звучало слово – сплошные ослышки и проговорки,
там, где играло слово, брешет лисица на алый щит,
заносящий копьё оглядывается и вздрагивает, но не сразу
останавливается у озера, где в камышах шуршит
уж, и шелестит цветная галька в деснице заезжего богомаза.
Далеко ли по этой глади уплывут пылающие корабли —
поражённые недругом? Чем я утешусь в скорби своей? Разве
даже морской простор, даже дорога в тысячу ли
не начинается с землемерия и водобоязни?
Охладив примочкой саднящий продолговатый синяк
на щеке, руки выложив на одеяло, исходя постыдной
ревностью, я ворочаюсь на алых шёлковых простынях,
осознавая, что ночь постепенно становится очевидной.
«…ах, как жалко людей – и не себя, я как-нибудь обойдусь…»
…ах, как жалко людей – и не себя, я как-нибудь обойдусь,
я без памяти жизнь люблю, но давно уверен – за ней
наступает ночь,
юноша длинноволосый на замызганной тушинской кухне пусть
плачет навзрыд (в элегиях) о несчастной любви и проч.,
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу