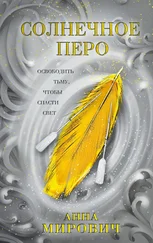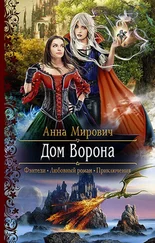Как тихо стало в природе!
Вся зренье она, вся — слух.
К последней страшной свободе
Склонился наш дух.
— «До чего созвучны мне эти гумилевские стихи, точно я сама их написала, точно родились они в тайниках моей души… И еще есть у него две “мои” строчки:
Неведомых материков
Мучительные очертанья.
И еще — как хорошо!
В час моего ночного бреда
Ты возникаешь пред глазами,
Самофракийская Победа
С простертыми вперед руками» [218] 23 октября 1931 г.
.
К Ахматовой она относится с заинтересованной настороженностью. Процитировав ее
Земной отрадой сердца не томи,
Не прилепляйся ни к семье, ни к дому,
У своего ребенка хлеб возьми,
Чтобы отдать его чужому,
М.-М. пишет: «хотелось бы знать, литература это у нее или же “линия движения”…» [219] 29 апреля 1940 г. у знакомых происходит случайная встреча М.-М. с Ахматовой. «Через час после встречи для меня уже было так непостижимо, почему я так восторженно обрадовалась ей. … (А что увидел ты, Мирович, когда так охмелел и затрепыхался и не знал, что делать?)».
.
28 апреля 1950 г., после разговора с В.А. и М.В. Фаворскими о Хлебникове, М.-М. перечитывает его, выписывает близкие ей строки:
Нежец тайностей туч,
Я в сверкайностях туч.
Пролетаю, летаю, лечу.
Улетаю, летаю, лечу.
В умирайнах тихих тайн
Слышен голос новых майн
Я звучу, я звучу…
— и комментирует: «всё понятно мне». Продолжая выписки:
Мы чаруемся и чураемся,
Там чаруясь, здесь чураясь,
То чурахарь, то чарахарь,
Здесь чуриль, там чариль,
— парадоксальным образом недоумевает: «Но почему Хлеб<���ников> изгнал музыку из своих вещей?» [220] В той же записи: «В<���ладимир> Ан<���дреевич>, опираясь на покойного художника Бруни, но исходя тоже из своего впечатления — на столе у него я видела книгу Хлебникова — считает его крупным художником слова, новатором, не признанным, пот<���ому> что новизна его подхода к творчеству в этой области не по плечу современникам. Я говорила, поскольку знакома с Хлебниковым, о психиатрической стороне его книг и его самого (сталкивалась с его средой через Е. Гуро и Каменского, лицом к лицу с ним всего два — три раза, и совсем молча). Талантливости его и тогда не отрицала, и теперь ее признаю, но мне она кажется покушением “с негодными средствами” выразить то, что по существу в слове, также и в других искусствах, невыразимо. Вспомнились попытки других футуристов что-то сказать (знала лично Матюшина), искажая, переставляя даже черты лица, соотношения всех частей человеч<���еского> тела или даже прибавляя к полотну картин рядом с красками клочков материи, соломинок, каких-то дощечек, колосьев и т. п.».
. Музыкальность для М.-М. — в полном соответствии с символистическим каноном (верленовской «музыкой прежде всего») — первая черта подлинной поэзии. Споря с Толстым, М.-М. говорит: «У поэта мысль рождается из мелодии, которая звучит уже почти готовыми музыкальными созвучиями» [221] Малахиева-Мирович В. В Ясной Поляне // РМ. 1911. Кн. 1. С. 161.
.
Показательно, как наполняется символическим содержанием «хрестоматийная» цитата из М.А. Кузмина, попадая в неожиданный контекст привычных размышлений М.-М.: «Так вот для чего аскеза: для независимости. Но ведь есть и другие пути, кроме аскезы.
Конечно, не с бифштексом (так сказал какой-то пастор: “мое христианство с бифштексом”). Бифштекс, пожалуй, можно есть — хотя лучше не есть — но надо, чтобы он знал свое место. “Шабли во льду, поджаренная булка” Кузмина уже тем, что попали в стихи — вытесняют “христианство”. Но в Кане Галилейской было вино и ничему не мешало» [222] 11 декабря 1930 г.
. Кузминская булка как символ непреодоленных земных слабостей и снижающая деталь становится атрибутом иронического автопортрета М.-М.: «…над самым Мальстремом повис, ухватившись за какую-то сухую ветку, Мирович, с поджаренной булкой во рту, не выпуская из подмышки разрисованных им абажуров и тетради “О преходящем и вечном”» [223] 9 мая 1939 г.
.
Другие «преодолевшие символизм» для М.-М. остались малоценны: «Поэзия — настоящая — не Мандельштамов и Пастернаков, именно тем и важна, что дает чувство реальности того мира, о котором говорит символика образов поэта и музыка формы, в какую они отлиты. “По небу полуночи ангел летел”, — рассказывает нам Лермонтов. И когда мы слушаем его, нам ни на минуту не приходит в голову, что это выдумка. Скорее мы сами, каковы мы в данной форме существования, нереальны, потому что преходящи, изменчивы, конечны. Полуночь, та, в какую летел Лермонтовский ангел, и сейчас вот есть, и ангел есть, и несет он, как тогда, когда увидел его Лермонтов, “душу младую” “для мира печали и слез”» [224] 9 июля 1934 г.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
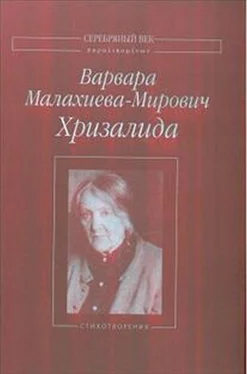

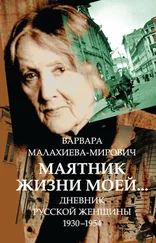
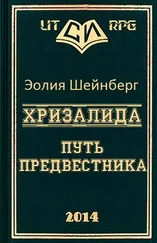
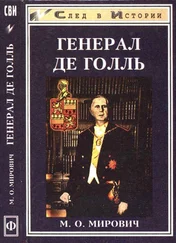
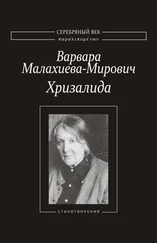
![Брендан Денин - Хризалида [litres]](/books/410580/brendan-denin-hrizalida-litres-thumb.webp)
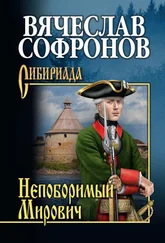
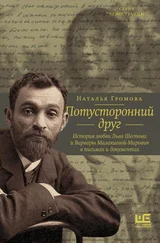
![Анна Мирович - Филин с железным крылом [litres]](/books/434470/anna-mirovich-filin-s-zheleznym-krylom-litres-thumb.webp)