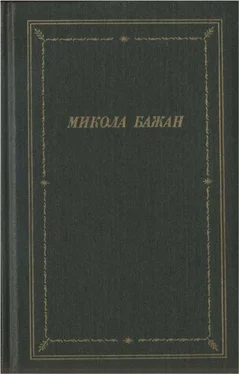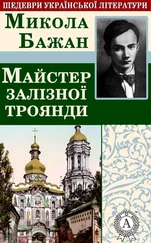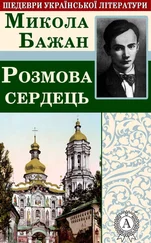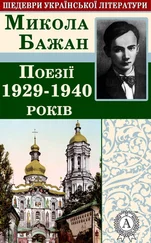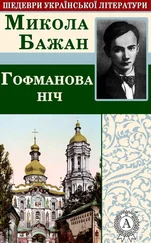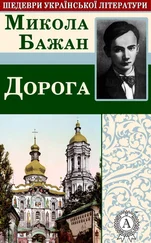Мы помогли чем можно парню. Ян
лежал недвижно. Тоненькие строчки
чернели на спине. Из свежих ран
сочилась кровь на бронзу, на мешочки,
на мятую солому, на сафьян,
на юбки, на старушечьи сорочки,
на черный лак шкатулок — и на соль,
которую мы между сундучками,
по возу шаря поперек и вдоль,
сгребали ослабевшими руками.
Очнулся Ян. Превозмогая боль,
соль собирал в ладони вместе с нами.
Он знал ей цену — цену звезд и тьмы,
добра и зла, — ее мы заплатили;
но мы не одиноки средь чумы
в бескрайнем поле, в черном пепле были:
и страх, и боль, и радость, и усилья
для всех людей с людьми делили мы.
И встретили крестьяне нас в селе,
невдалеке, за ближним косогором.
Был пресен хлеб, лежавший на столе,
на полотенце с ласковым узором,
и в светлом, человеческом тепле
пришел черед спокойным разговорам.
Мы дали соль — живи, еда людская!
И, в общую солонку хлеб макая,
мы благодарно ели.
1969 Перевод Д. Самойлова
1
По дранке, замшелой, корявой,
черной и старообразной,
Увесистые, барабанят
внезапного ливня удары,
И в комнатах ветхого дома —
шорох однообразный,
И пахнет травою, и хлебом,
и погребом, затхлым и старым.
Мы слушаем — я и Людмила,—
как пальцы дождя
проворно
По клавишам дранки танцуют,
как гром нажимает педали,
И быстрые, частые гаммы пронзают тревогою черной,
И молнии раздирают глухие, печальные дали.
Сгущается грусть. С поднебесья упругие струйки
стремятся,
Разбившись о гулкую крышу,
упруго и звучно столкнуться.
Раздумья, раздоры и споры приходят, бушуют, глумятся,
И наши незрелые души под натиском стонут и гнутся.
Бредем мы по краю смятенья, обрывистого, как пропасть,
Сердца — в перекличке, и руки сплелись под зигзагами
молний;
Замучит ли нас до предела, спасет ли, рассеявши робость,
Та вера, что глуше молитвы, тоски одинокой безмолвней?
На донышке сил остается в растоптанных горечью душах,
В оглохшей от пушечных залпов, от звонов церковных
надежде:
Ведь снова сияют медали на дряблых колбасничьих тушах
И пан Филиппенков свой орден цепляет на шею, как
прежде.
Всё так повернулось, как будто два года исчезли бесследно.
Еще добивают кого-то
и в чьи-то врываются двери,
Но вот уже чванные трубы «Коль славен…» заладили
медно,
И гипсового Шевченко
разбили, рассыпали в сквере.
А в сквере сидят галичане в мундирах потертых и старых;
В стрельцах они были недавно —
теперь они в белых солдатах.
И нервная бродит усмешка, змеится на лицах усталых,
И сорваны знаки различья на этих мундирах измятых.
Как мало таких, что восстали,
не сдавши оружия белым!
И даже стрелять в подчиненных офицерне случалось,
Чтобы ни с новой правдой, чтобы ни с новым делом —
Чтобы с большевиками войско не повстречалось.
Хмурые сумерки вышли на смену дневному свету,
Колокола — на смену тявканью пулемета.
А Гриши, брата Людмилы, всё еще дома нету.
Он в мастерских задержался?
Или случилось что-то?
Ночь. Еще падают капли
весомо и постепенно,
Словно Тарасовы ритмы —
тяжко, уверенно, хлестко,
Траурно, как аккорды,
рожденные горем Шопена.
О, стоны, сомненья и муки Великого Перекрестка!
Так полнятся сердца, жизнь обретает вес,
Так смерть, любовь и гнев
всё ближе, неприкрытей,
И ураган стремительных наитий
Приносит знанье тайн и виденье чудес.
Стремись, терзайся, прозревай, болей,
Надейся слепо, странствуй без путей —
И вспыхнет свет внезапный, словно птица…
Ты плачешь, Люда?
Наклоняясь, пей
Тепло, что в ней безропотно струится;
Дыханье, грудь, колени — вся она
Так любистоком пахнет горько, сладко;
Мне телом полудетским вручена
Девичества тревожная загадка.
Приходит нежность, забытье ведя;
Звучишь ты заодно с простором, слыша,
Как мягко бьются капельки дождя
О мох густой, о планки дряхлой крыши,
Звеня монистом в медленном паденье…
И это — чудо. Музыки рожденье.
Ты плачешь, Люда?
Перестань, очнись,
Истертых, ветхих клавишей коснись,
И старое, глухое фортепьяно
В струистой мгле старательно и рьяно
Пусть повторит арпеджио воды,
Которое когда-то, в дальней дали
Впервые пел шопеновский рояль,
Чьи струны навсегда пророкотали
Надежду, возмущение, печаль.
Пусть из-под милых, неумелых рук
Плывет за звуком непреложный звук,
Майоркского прелюда [91] В 1839 году на острове Майорка Ф. Шопен создавал свои прелюды, в том числе и так называемый «Дождевой прелюд».
дождь печальный,
Ненастья голос, трепетный, прощальный,
Выстукивая всё одну и ту ж
Тревожную, настойчивую ноту.
Как дождь, одну лишь знающий заботу,
Течет прелюд.
И плеском свежих луж,
И шелестом листвы, и скрипом веток
Сливается он с шумом за окном…
А там, снаружи, осторожно этак,
С опаскою обходит кто-то дом,
И ускоряет шаг за поворотом,
И что-то тащит к нам из темноты,
И Люда, вздрогнув, спрашивает:
«Кто там?
Григорий, ты? Григорий, это ты?..»
Читать дальше