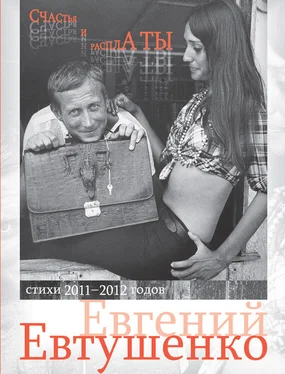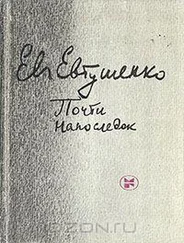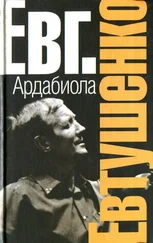Зато какая у него появилась горькая и в то же время гордая выношенность его поздней, но не запоздалой поэзии. Сколько лет он вынашивал в себе образ последнего оставшегося в живых солдата, державшего в одиночку оборону в доме, перебегая от окна к окну и отстреливаясь, чтобы врагам казалось: русских там еще много. А когда его убили:
В оседающем дыму
в огненной печали
«Выходи по одному!» —
Мертвому кричали.
Это одно из самых сильнейших стихов о войне за всю мировую историю войн.
Будь моя воля, я бы сделал, чтобы каждого 9 Мая каждый час на Красной площади по праву звучало такое четверостишие Ваншенкина рядом с другим великим одностишием Ольги Берггольц:
* * *
Мы, причастные к этим двум датам,
На земле находились не зря
Между двадцать вторым и девятым —
В нарушение календаря.
Предсказываю будущую неизбежную хрестоматийность другому стихотворению Ваншенкина, вдруг парадоксально объявившего приоритет непредсказуемости кукушки над заливистыми, но все же более предсказуемыми трелями соловья. Шедевр внутри кажущейся мелочи. Защита не такой уж монотонности, в которой спрятан сюрприз, заставляющий нас замереть от невозможности предугадать не только «как наше слово отзовется», но и от того, что это будет за слово:
Понятна истина сия
В густых кустах и вдоль опушки
Разнообразье соловья
И повторяемость кукушки.
Он в душу бьет. Но и она
В душе затрагивает что-то
Ошеломляюще сильна
Непредсказуемостью счета.
1993
Итак, самый, казалось бы, предсказуемый поэт Ваншенкин оказался одним из самых непредсказуемых.
Ваншенкин постепенно перешел от свидетельского схватывания разрозненных деталей к сопереживающей собирательной гражданственности, отнюдь не впадая в ораторские конвульсии. Вот как он разом защитил всех настоящих поэтов наперед в своей универсальной притче, которая заслуживает того, чтобы сильные мира в нее вдумались.
Он провидцем был и пастырем,
А они ему
Залепили очи пластырем,
Повлекли во тьму.
Хохоча над шуткой плоскою —
все равно, мол, врет! —
Тоже клейкою полоскою
Защемили рот.
«Не сживать же срочно со свету!
Хватит этих мер».
А коль что напишет сослепу,
Как старик Гомер?
В его лирике он победил собственную сентиментальную сдержанность, однако не переходя ту границу эротики, за которой у многих уже идет сборная пошлянка. Как рискованно, но угадчиво вышел он от аллитерации на философию дарованной каждому возможности любить, невзирая ни на какой возраст:
Старость и страсть —
Как эти звуки похожи!
Даже совпасть
Могут морозом по коже.
Сильный и раньше в портретах, он создал самый лаконичный и поразительно хваткий стихотворный портрет Эрнста Неизвестного.
Эрнст Неизвестный скалит зубы —
то не причуда, не пустяк.
Ему оскалы эти любы,
Себя он взбадривает так.
Нет, нет, не по-американски,
Светя улыбкой в объектив, —
Так могут делать, скажем, в Канске,
С бутылки пробку открутив.
Он ухмыляется по-волчьи,
Когда находит, что искал.
От одиночества и желчи
Его мучительный оскал.
1996
Вы не забудете ни его Старостина, ни его рыжую вакханку, ни щепоть любви женщины, которая крестит солдатика, словно картошку солит, ни поскрипывание похожего на рассохшееся дачное кресло трона последнего царя, ни фронтового труса, который так старается, чтобы этого никто не заметил, что в конце концов первоначальное притворство становится смелостью. Психологические новые миниатюры Ваншенкина поражают своей тонкостью и сконцентрированностью и, как лоскутки жизни, срастаются в эпическое полотно истории. Из поэта деталей он становится поэтом всеобъемлющим. Внешнее портретирование, в котором был всегда силен, становится портретированием внутренним. Вот, например:
Не вспомню враз
Сквозь временные расстоянья
Ни глаз, ни фраз —
И угадать не в состоянье.
– Не узнаешь? —
И вздрагивают губы эти,
Почуяв ложь
В моем уклончивом ответе.
Ну что ж, ну что ж.
Ведь жизнь, по сути, на излете…
– Не узнаешь? —
И, помолчав: – Не узнаете?
Один из персонажей Ваншенкина помкомвзвода Синягин учил молодого будущего поэта держать оружие в чистоте:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу