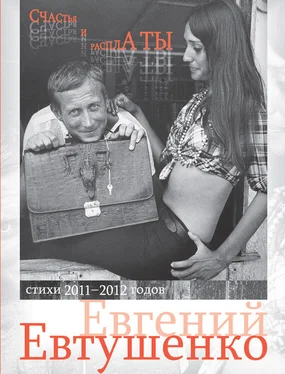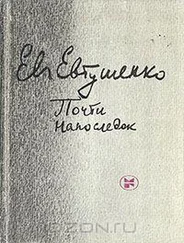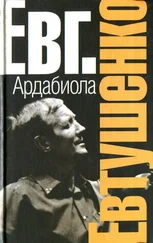Неужели,
забыв свою гордость и честь,
цирк на кладбище —
это Россия и есть?
Мандельштам и Дзержинский
Не Маяковский с пароходным рыком,
не Пастернак в кокетливо-великом
камланьи соловья из Соловков,
а Мандельштам с таким ребячьим взбрыком,
в смешном бесстрашьи, петушино-диком,
узнав рябого урку по уликам,
на морду, притворившуюся ликом,
клеймо поставил на века веков.
Но до тридцатых началась та драма.
Был Блюмкин знаменитей Мандельштама.
Эсер-чекист в церквях, кафешантанах
вытаскивал он маузер легко.
Ах, знала бы «Бродячая собака»,
что от ее хмельного полумрака
до мерзлых нар колымского барака
писателям не так уж далеко.
Пил Блюмкин, оттирая водкой краги
от крови трупов, сброшенных в овраги,
а рядом – с рюмкой плохонькой малаги
стихи царапал, словно на колу,
поэт в припадке страха и отваги
и доверял подследственной бумаге
то, что нельзя доверить никому.
Все умники, набив пайками сумки,
прикинулись тогда, что недоумки,
а он ушел в опасные задумки,
не думать отказавшись наотрез.
Трусливо на столах дрожали рюмки,
когда хвастливо тряс убийца Блюмкин
пустыми ордерами на арест.
Не те, что красовались в портупеях,
Надеясь на бессмертье в эпопеях,
А Мандельштам, витавший в эмпиреях,
Всегда ходивший в чудиках-евреях
И вообще ходивший налегке,
спасая совесть – глупую гордячку,
почти впадая в белую горячку,
вскочил и вырвал чьих-то жизней пачку,
зажатую в чекистском кулаке.
Размахивая маузером, Блюмкин
погнался, будто Мандельштам был юнкер
из недобитков Зимнего дворца.
А тот, пока у ямы не раздели,
бежал и рвал аресты и расстрелы,
бежал от неизбежного конца.
Дзержинский был непоправимо мрачен
и посещеньем странным озадачен.
«Юродивый» – был вывод однозначен,
когда небрит, взъерошен и невзрачен
в ЧК защиты попросил поэт.
«Неужто чист? Ведь и в ЧК нечисто…
Все слиплось – и поэты, и чекисты.
В ЧК когда-то шли идеалисты
или мерзавцы… Первых больше нет…»
И Мандельштама он спросил, терзаясь:
«Возможен ли идеалист-мерзавец?»
«Еще и как! – воскликнул Мандельштам
и засмеялся: – Бросьте вашу зависть,
Я муками не меньше угрызаюсь.
Идеалист-мерзавец я и сам…»
Железный Феликс возвратился к делу
и буркнул в трубку: «Блюмкина – к расстрелу».
«О, только не расстрел… – вскричал поэт… —
Ему бы посидеть, хотя б немного,
тогда, быть может, вспомнит он про Бога.
Стрелялку бы отнять – вот мой совет…»
Поэт вертелся на чекистском стуле,
как будто уклонялся он от пули:
«Скажите, а бывает иногда
что вы… вы отпускаете невинных?»
Вопросов столь прямых и столь наивных
не ждал Дзержинский. Был ответ наигран:
«Ну, это дело не мое – суда…»
На этот раз был Мандельштам отпущен.
«Он идиот. Он Мышкин, а не Пушкин…» —
подумал председатель ВЧК.
Мерзавцем сам себя назвал. Не выдал
мне Блюмкина. Сам ищет свою гибель.
Настолько беззащитных я не видел,
но этим он и защищен… пока…»
И, выйдя из чекистского палаццо,
шумнее карнавального паяца,
стал Мандельштам отчаянно смеяться,
лишь чудом ускользнув из рук того,
кто всю Россию приучил бояться,
а сам боялся сердца своего.
Разорвалось. Не вынесло всего.
В России все виновны без презумпций.
Исполнивший обязанность безумства,
не позабыв там, в мерзлоте, разуться,
прижался Мандельштам к другим ЗК,
и, созерцая воровство и пьянки,
беспомощный Дзержинский на Лубянке
окаменел, да вот не на века.
Что уцелело? Блюмкинские бланки,
но их теперь в расчетливой подлянке
подписывает шепот – не рука.
Все профессиональные герои
теряют обаянье роковое.
Немыслим профессионал-пророк.
Бессмертны лишь герои-дилетанты,
неловкие с эпохой дуэлянты,
не знающие, как нажать курок.
Гранитных статуй не глодают черви,
но не защищены они от черни,
и шествует возмездье по пятам,
и, свеженький, из мерзлоты, с морозца
рвет приговоры чьи-то и смеется
мучительно смешливый Мандельштам.
1—29 ноября 1998
Кто в двадцатом столетии
всех поэтов поэтее?
Кто глодал ртом беззубым
жмых, подаренный лагерным лесорубом,
как парижский каштан,
и вплетал то Петрарку, то Лорку
в уголовную скороговорку?
Доходяга смешной Мандельштам.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу