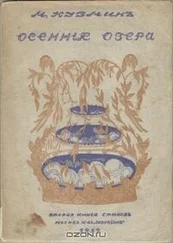Зима
Близка студеная пора,
Вчера с утра
Напудрил крыши первый иней.
Жирней вода озябших рек,
Повалит снег
Из тучи медленной и синей.
Так мокрая луна видна
Нам из окна,
Как будто небо стало ниже.
Охотник в календарь глядит
И срок следит,
Когда-то обновит он лыжи.
Любви домашней торжество,
Нам Рождество
Приносит прелесть детской елки.
По озеру визжат коньки,
А огоньки
На ветках – словно Божьи пчелки.
Весь долгий комнатный досуг,
Мой милый друг,
Развеселю я легкой лютней.
Настанет тихая зима:
Поля, дома —
Милей все будет и уютней.
* * *
Виденье мной овладело:
О золотом птицелове,
О пернатой стреле из трости,
О томной загробной роще.
Каждый кусочек тела,
Каждая капля крови,
Каждая крошка кости —
Милей, чем святые мощи!
Пусть я всегда проклинаем,
Кляните, люди, кляните,
Тушите костер кострами —
Льду не сковать водопада.
Ведь мы ничего не знаем,
Как тянутся эти нити
Из сердца к сердцу сами…
Не знаем, и знать не надо!
Пейзаж Гогена
Красен кровавый рот…
Темен тенистый брод…
Ядом червлены ягоды…
У позабытой пагоды
Руки к небу, урод!..
Ярок дальний припек…
Гладок карий конек…
Звонко стучит копытами,
Ступая тропами изрытыми,
Где водопой протек.
Ивою связан плот,
Низко златится плод…
Между лесами и селами
Веслами гресть веселыми
В область больных болот!
Видишь: трещит костер?
Видишь: топор остер?
Встреть же тугими косами,
Спелыми абрикосами,
О, сестра из сестер!
Враждебное море
Ода [26]
Чей мертвящий, помертвелый лик
в косматых горбах из плоской вздыбившихся седины вижу?
Горгона, Горгона,
смерти дева,
ты движенья на дне бесцельного вод жива!
Посинелый язык
из пустой глубины
лижет, лижет
(всплески – трепет, топот плеч утопленников!),
лижет слова
на столбах опрокинутого, потонувшего,
почти уже безымянного трона.
Бесформенной призрак свободы,
болотно лживый, как белоглазые люди,
ты разделяешь народы,
бормоча о небывшем чуде.
И вот,
как ристалищный конь,
ринешься взрывом вод,
взъяришься, храпишь, мечешь
мокрый огонь
на белое небо, рушась и руша,
сверливой воронкой буравя
свои же недра!
Оттуда несется глухо,
ветра глуше:
– Корабельщики-братья, взроем
хмурое брюхо,
где урчит прибой и отбой!
Разобьем замкнутый замок!
Проклятье героям,
изобретшим для мяса и самок
первый под солнцем бой!
Плачет все хмурей:
– Менелай, о Менелай!
не знать бы тебе Елены,
(Слышишь неистовых фурий
неумолимо охрипший лай?)
Все равно Парис белоногий
грядущие все тревоги
вонзит тебе в сердце: плены,
деревни, что сожжены,
трупы, что в поле забыты,
юношей, что убиты, —
несчастный царь, неси
на порфирных своих плечах!
На красных мечах
раскинулась опочивальня!..
В Елене – все женщины: в ней
Леда, Даная и Пенелопа,
словно любви наковальня
в одну сковала тем пламенней и нежней.
Ждет.
Раззолотили подушку косы…
– Париса руку чует уже у точеной выи…
(впервые
Азия и Европа
встретились в этом объятьи!!)
Подымается мерно живот,
круглый, как небо!
Губы, сосцы и ногти чуть розовеют…
Прилети сейчас осы —
в смятеньи завьются: где бы
лучше найти амброзийную пищу,
которая меда достойного дать не смеет?
Входит Парис-ратоборец,
белые ноги блестят,
взгляд —
азиатские сумерки круглых, что груди, холмов.
Елена подъемлет темные веки…
(Навеки
миг этот будет, как вечность, долог!)
Задернут затканный полог…
(Первая встреча! Первый бой!
Азия и Европа! Европа и Азия!!
И тяжелая от мяса фантазия
медленно, как пищеварение, грезит о вечной
народов битве,
рыжая жена Менелая, тобой, царевич троянский, тобой
уязвленная!
Какие легкие утром молитвы
сдернут призрачный сон,
и все увидят, что встреча вселенной
не ковром пестра,
не как меч остра,
а лежат, красотой утомленные,
брат и сестра,
детски обняв друг друга?)
Читать дальше