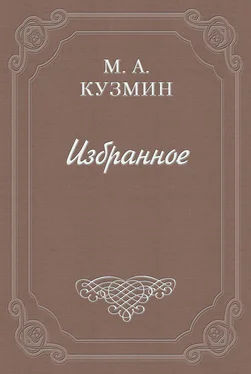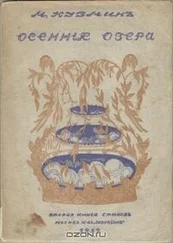Теперь уже нельзя утверждать, что литература молчит, вольно или невольно. Ряд альманахов московских и петербургских, литературные приложения в некоторых газетах, большая доступность зарубежных русских периодических изданий и отдельно вышедшие книги художественной прозы дают возможность уяснить себе положение русской литературы.
Конечно, главный интерес возбуждают еще и теперь книги, к литературе никакого отношения не имеющие, характера общественного или воспоминания о последних годах, по большей части и не претендующие на художественное значение.
Количество и распределение литературного материала, по-видимому, случайно и говорит исключительно о большей или меньшей предприимчивости в смысле сношений данного автора.
Некоторые имена наводнили рынок и журналы, другие почти отсутствуют. Судить по этому о популярности или успехе преждевременно. Выйдет, что самые популярные прозаики в настоящее время Эренбург, Пильняк и Иванов. Куда популярнее Ремизова, Белого, Сологуба, Замятина и Юркуна.
Хронологически революционное время совпало с выступлением Пильняка и Серапионовых братьев. [1]Я воздержусь от умозаключений, во-первых, потому, что не могу считать год рождения, факт, независимый от воли рождаемого, за показатель какого бы то ни было психологического или политического уклона, а во-вторых, потому, что молодые эти беллетристы покуда демонстрируют исключительно способы изобразительности, заняты всецело развертыванием сюжета, обнажением приема и т. п., так что не только определить их революционность, но заметить даже какую-либо эмоциональную восприимчивость – невозможно. Приемы же их довольно известные и достаточно старые: Гоголь, Лесков, Ремизов, Белый и все это как-то через Замятина. Покуда великолепные перевозочные средства, блестящая тара – но багажа, товару для перевозки что-то не видно. И искать новых сдвигов духа, новых художественных ценностей покуда что приходится у писателей старших: Ремизова, Белого, Ал. Толстого или у писателей, начало которых относится все-таки к дореволюционному периоду – у Юркуна, Замятина и Пастернака.
Потому что я, по крайней мере, отказываюсь по одним способам изобразительности определять ценность, а тем более новизну или революционность какого бы ни было произведения искусства. Конечно, это обстоятельство не мешает мне видеть незаурядные литературные способности у Пильняка, Вс. Иванова и Никитина.
Но внешние достоинства при широко распространившемся в настоящее время даже среди самой невежественной публики увлечении формальным подходом, естественно, привлекают к себе большое внимание.
И я не удивлюсь, если прекрасная, делающая событие в искусстве повесть Б. Пастернака «Детство Люверс» пройдет менее замеченной, чем, скажем, стихи того же автора, несравненно слабейшие, но в которых отдана обильная дань формальному модничанью.
Рассказ о детстве. За последние годы, не считая А. Франса («Маленький Пьер»), в русской литературе детством усиленно занимались («Детство» Горького, «Детство Никиты» А. Толстого, «Котик Летаев» Белого, «Младенчество» Вяч. Иванова, «Шведские перчатки» Юркуна). Но интерес повести Пастернака не в детской, пожалуй, психологии, а в огромной волне любви, теплоты, прямодушия и какой-то целомудренной откровенности эмоциональных восприятий автора.
Фабула развивается естественно, но еле заметно, больше предполагается за рядом острых и мелких (как впечатления близоруких людей) картин и сцен, прерываемых философскими размышлениями автора.
Как ни странно – некоторые страницы, некоторые отношения автора (или его героини) напоминают облегченного Льва Толстого или романы Гете.
«Мало кто знает и слышит то, что зиждет, ладит и шьет его. Жизнь посвящает очень немногих в то, что она делает с ними. Она слишком любит это дело и за работой разговаривает разве с теми только, кто желает ей успеха и любит ее верстак. Помочь ей не властен никто, помешать может всякий» и т. д.
Или о солдатах:
«Налет бездушия, потрясающий налет наглядности сошел с картины белых палаток; роты потускнели и стали собранием отдельных людей в солдатском платье, которых стало жалко в ту самую минуту, как введенный в них смысл одушевил их, возвысил, сделал близким и обесцветил».
Или чудесное чувство:
«Внезапная мысль осенила ее. Она вдруг почувствовала, что страшно похожа на маму. Это чувство соединилось с ощущением живой безошибочности, властной сделать замысел фактом, если этого нет еще на лицо, уподобить ее матери одною силой потрясающе-сладкого состояния. Чувство это было пронизывающее, острое до стона. Это было ощущение женщины, изнутри или внутренне видящей свою внешность и прелесть. Женя не могла отдать себе в нем отчета. Она его испытывала впервые. В одном она не ошиблась. Так, взволнованная, отвернувшись от дочери и гувернантки, стояла однажды у окна госпожа Люверс и кусала губы, ударяя лорнеткой по лайковой ладони».
Читать дальше