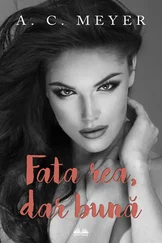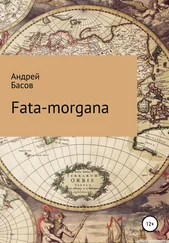Сегодня вновь я здесь… Но где же
Все то, что помню с детских лет?
Все заросло травою свежей,
И мельницы знакомой нет!
И сердце как-то вдруг сознало,
Что всех потерь былых не счесть,
Что, вот… и мельницы не стало,
Что только прежний ветер есть…
Пленный лев
(Перевод стихотворения Джоффрей Вивиен: Нью-Йорк Таймс, Окт. 28, 1948)
Прутья решетки по небу проходят, мелькая…
Лица за ними… И вдруг — мяса кусок кровяной.
Там, где-то в памяти, смутные образы рая:
Стебли высокой травы… озеро… огненный зной…
«Детство — греза, замуровывающая…»* [1] Стихотворения, отмеченные звездочкой, [*], были впервые напечатаны в Нью-Йорке, в 1949 г., в сборнике «ЧЕТЫРНАДЦАТЬ», изданном «КРУЖКОМ РУССКИХ ПОЭТОВ в АМЕРИКЕ».
Детство — греза, замуровывающая
Дверь к безмолвию и сну,
Радость жизни, околдовывающая
Верой в счастье и весну.
Юность, душу одурманивающая
Хмелем страсти в первый раз, —
Только сказка, нас заманивающая
Волшебством влюбленных глаз.
Зрелость, жемчуг лет растрачивающая,
Только боль недавних ран,
Горечь дум, сполна оплачивающая
Поздно понятый обман.
Старость — сердце опечаливающие
Годы мудрости, а мы,
К тихой пристани причаливающие, —
Только дети вечной тьмы.
«Пусть волю нашу мы упорно…»
Пусть волю нашу мы упорно
Хотим свободной волей мнить.
Пусть мним, что воля охранить
Нас может силой чудотворной, —
Мы только дерзкие рабы,
Чей жребий, следовать покорно
В ночи за Факелом Судьбы…
Смерть Писарро (26 июня 1541 г.)*
Их было четверо. Они сидели вместе,
Пока за трапезой служили два пажа.
Обед закончился, и время шло к сиесте:
В июньский полдень тот не ждали мятежа.
Крича, вбежал слуга… Упала весть, как молот:
В руках врагов дворец, и лестница, и двор!
Алькад исчез, как трус. Отважный друг заколот.
Остались брат и он, седой конквистадор.
Старик еще в дверях: со шпагой, в медных латах.
Он ранен. Падает… Движением перста
Он чертит кровью крест на каменных квадратах
И, умирающий, целует знак Креста.
«Идет гроза… Господь, оборони…»
Идет гроза… Господь, оборони,
Чтоб молнии не грянули на башни,
Чтоб не взметнулись дымные огни,
Чтоб днем последним не был день вчерашний!
Земля сгорит сегодня в ночь дотла.
Спасенья нет и нет нигде защиты:
Здесь будут тлеть спаленные тела,
Там будут вопли в рев звериный слиты!
Но тех, кто горд могуществом наук,
Не гром небесный оглушит раскатом,
И гибель наша — дело наших рук:
Безумствуя, мы разбудили атом!
Продли, Господь, Земле земные дни,
Продли нам жизнь и наш уют домашний!
Идет гроза… Господь, оборони,
Чтоб молнии не грянули на башни!
«Вечерний ветер выл в потемках чащ лесных…»
(перевод с английского из Джона Сквайра (1884–1958)
Вечерний ветер выл в потемках чащ лесных,
В потемках чащ лесных, хранивших с древних лет,
Хранивших с древних лет всю скорбь веков иных,
Всю скорбь веков иных… И верилось, и нет,
И верилось, и нет, что ветру знать дано,
Что ветру знать дано печаль всех тех, кто был,
Печаль всех тех, кто был и кто истлел давно
— «И кто истлел давно», — вечерний ветер выл.
Да, все течет… поверим Гераклиту.
Да, день за днем текут куда-то дни,
И нищему монаху-кармелиту
Я становлюсь на склоне лет сродни…
У прошлого прошу я подаянья,
Стремлюсь припомнить слово… имя… день…
И жду ответа, как благодеянья;
Но память спит, и ей проснуться лень.
Проходят мимо смутные виденья,
Уходит жизнь и гаснет на глазах
Скользя с высот к безмолвию забвенья
На ненадежных ржавых тормозах.
И, если память не подвластна чуду
И не воспрянет, как по волшебству, —
Мне кажется, я скоро позабуду,
Что я как будто все еще живу.
«Единый день пред господом, яко тысяща лет,
и тысяща лет, яко день един.»
Второе Соборное Послание Апостола Петра; гл. 3, ст. 8.
В Тюрингии, в кольце отрогов горных,
Читать дальше
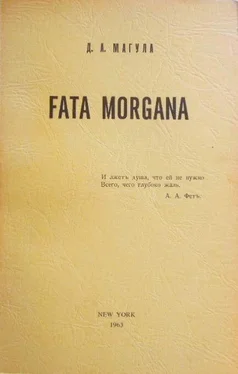

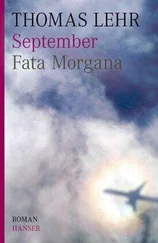



![Дмитрий Игнатов - Это ваше Fido [publisher - SelfPub]](/books/402261/dmitrij-ignatov-eto-vashe-fido-publisher-selfpub-thumb.webp)