Война. Осенняя промозглая погода,
За сеткою дождя не видно ничего.
И глинистою грязью, слякотью полна дорога,
И от нее спасенья нет ни у кого.
На ней и хрип, и храп людской и лошадиный,
Он раздается над восточной стороной,
И отступленье, отступленье, отступленье.
И это хуже, чем последний смертный бой.
Дорога не дорогою, и вьется, как змея,
И всасывает в грязь свою людские души,
Воронками истерзана, траншеями исчервлена,
А на десятки километров там ни сантиметра суши.
Дорога не дорогою, и вьется, как змея,
И всасывает в грязь свою людские души,
Воронками истерзана, траншеями исчервлена,
А на десятки километров там ни сантиметра суши.
Здесь трубы деревень стоят в щемящей голости такой,
Здесь бесприютность, голод, холод, неизвестность.
Здесь карк вороний раздается над толпой,
Отчаяньем и матом вся покрыта местность.
Вот вдруг затор. В колдобину попала пушка.
В упряжье там попала тройка дохлых лошадей.
И постромок, освободившись от оглобли перелома,
Хлестает по лицу скопившихся людей.
Бедняги рвутся из последних сухожилий,
В канаве слышится отчаяннейший мат людей,
«На нет и спроса нет, а ну, их на хуй»,
Бросают пушку вместе с трупами издохших лошадей.
И бесполезные своею прошлой жизнью,
Ты погляди – подряд, подряд, подряд.
И тут и там Т-тридцать четверки,
И «Тигры», «Фердинанды», перевернутые здесь лежат.
Вдруг крик: «Ложись, ребята, воздух!!!»
И в грязь лицом десятки тысяч вдруг.
Лежат, спиной прикрытые от смерти,
Лежи, терпи и не дыши, мой друг.
Десятки тысяч словом, словно пулей, уложили,
А пуля убивает только цель одну,
Евангелие здесь только применимо,
Одним лишь словом уложить несчастную и рваную толпу.
У летчика земля, как карта на планшете,
Прямой наводкой бьет наверняка,
А там среди солдат и старики, и женщины, и дети,
Но ведь чужие старики, и мать, и дети, и жена.
Прошла атака, люди поднималися из грязи,
Война, собака, что ты сделала с людьми?
И молча, друг поддерживая друга,
На тыщу меньше на восток понуро побрели.
Не так все просто – голова змеи, что на восток,
Свободна от людей с оружием для боя,
А хвост змеи поближе к западу – туда нельзя,
Он «смерша» охраняется конвоем.
А все ведь для того, чтоб кто-то не сбежал,
Которому тот запад вдруг покажется родною стороною,
Попробуй, друг, рискни – не отступай,
То будет дел тем «смершевцам»– конвою.
Прошли десятки лет, и если жив тот летчик,
Я не завидую ему в его судьбе,
В ненападенье, в отступленье находились люди,
И как прощение отмолит перед Богом он себе?
Я вышел, черт возьми, хоть ранен, но живой
Из тех боев кромешных – хуже ада,
Из страшной тьмы растерзанных домов,
Теперь домой – домой, и это высшая моя награда.
Четыре с половиной года я прошел в боях,
Был много ранен, видел много горя,
Но как в Берлине, я не видел в страшном сне,
Там русских и немецких трупов было море.
Здесь каждый дом был неприступен и, когда
Мы «Гитлерюгенд» из развалин выбивали,
Они зубами в кирпичи вгрызались – детвора.
И много нас, прошедших всю войну, поубивали.
Попробуй-ка, войди в горящий тот подъезд,
где за углом тебя мальчишка поджидает,
Но мы не «Гйтлерюгенд» – опыт есть войны,
Гранату без чеки – пусть получает.
Уничтожал нас огненной струею огнемет.
Казалось, мы ползем на доты, заживо сгорая,
Из всех ослепших окон убивал строчащий пулемет,
И смерть нас поджидала здесь в конце войны у края.
Мы рвались к канцелярии, чтобы потом
Не говорили – не добили, и мы жизни не жалели.
Но здесь не повезло, другие прорвались с трудом,
Хотя мы первые добить проклятого хотели.
Ведь как обидно здесь погибнуть, ведь последний бой,
Ведь заслужил свою-то жизнь продолжить хоть немного,
Я за спину не прятался, всегда на передовой,
Просил судьбу оставить мне дорогу к дому.
Мечтал: в деревне появлюсь в наградах, орденах,
Чтоб не сказали, что войну прошел задаром,
А будет ли потом легко иль тяжело в трудах,
Мне все равно после войны, гори оно пожаром.
Там ждет меня давно моя жена,
И двое ребятишек – уж наверно позабыли,
А фотографию мою и треугольники с войны,
Я думаю, они давно уж с фронта получили.
Пословица права, что «гоп не говори!»,
Пока не перепрыгнул ты, сердешный, ямы,
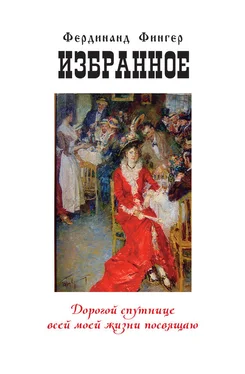


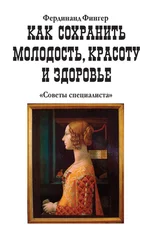

![Антоний Фердинанд Оссендовский - Мирные завоеватели [Избранные сочинения. Том IV]](/books/407725/antonij-ferdinand-ossendovskij-mirnye-zavoevateli-thumb.webp)
![Антоний Фердинанд Оссендовский - Перуново урочище [Избранные сочинения. Том III]](/books/407981/antonij-ferdinand-ossendovskij-perunovo-urochiche-i-thumb.webp)
![Антоний Фердинанд Оссендовский - Бриг «Ужас» [Избранные сочинения. Том II]](/books/408068/antonij-ferdinand-ossendovskij-brig-uzhas-izbran-thumb.webp)
![Антоний Фердинанд Оссендовский - Тайна трех смертей [Избранные сочинения. Том I]](/books/408118/antonij-ferdinand-ossendovskij-tajna-treh-smertej-thumb.webp)



