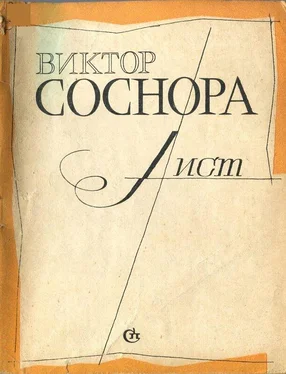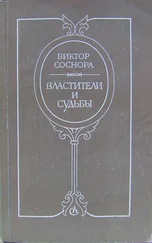Там, в негасимой синеве,
ушли за кораблем корабль,
пел тихий хор простых сирен.
Фонарь стоял, как канделябр.
Как факт, фонарь. А мимо в мире
шел мальчике крыльями и лирой.
Он был бессмертьем одарен
и очень одухотворен.
Такой смешной и неизвестный,
на муку страха или сна
в дурацкой мантии небесной
он шел и ничего не знал.
Так трогательно просто (правда!)
играл мой мальчик, ангел ада.
Все было в нем — любовь и слезы,
в душе не бесновались бесы,
рассвет и грезы, рок и розы…
Но песни были бессловесны:
«Душа моя, а ты жила ли,
как пес, как девушка дрожа?..
Стой, страсть моя! Стой, жизнь желаний
Я лиру лишнюю держал.
В душе моей лишь снег да снег,
там транспорт спит и человек,
ни воробьев и ни собак.
Одна судьба, одна судьба».
Спи, мой мальчик, мой матрос.
В нашем сердце нету роз.
Наше сердце — север-сфинкс.
Ничего, ты просто спи.
Потихоньку поплывем,
после песенку споем,
я куплю тебе купель,
твой кораблик — колыбель.
В колыбельке-то (вот-вот!)
вовсе нету ничего.
Спи. Повсюду пустота.
Спи, я это просто так.
Сигаретки — маяки,
на вершинах огоньки.
Я куплю тебе свирель
слушать песенки сирен.
Спи, мой мальчик дорогой.
Наше сердце далеко.
Плохо плакать, — все прошло,
худо или хорошо.
Вы видели Мартынова в Париже?
Мемориальны голуби бульваров:
сиреневые луковицы неба
на лапках нарисованных бегут.
Париж сопротивляется модерну.
Монахини в отелях антикварных
читают антикварные молитвы.
Их лица забинтованы до глаз.
Вы видели Мартынова в Париже?
Мартынов запрокидывал лицо.
Я знаю: вырезал краснодеревщик
его лицо, и волосы, и пальцы.
О, как летали золотые листья!
Они летали хором с голубями,
они как уши мамонтов летали,
отлитые из золота пружины.
Какие развлеченья нам сулили,
какие результаты конференций!
Видения вандомские Парижа!
А он в Париже камни собирал.
Он собирал загадочные кремни:
ресницы Вия, парус Магеллана,
египетские профили солдат,
мизинцы женщин с ясными ногтями.
Что каждый камень обладает сердцем,
он говорил, но это не открытье,
но то, что сердце — середина тела,
столица тела, это он открыл.
Столица, где свои автомобили,
правительства, публичные дома,
растения, свои большие птицы,
и флейты, и Дюймовочки свои…
Был вечер апельсинов и помады.
Дворцы совсем сиреневые были.
Париж в вечернем платье был прекрасен,
в вечернем и в мемориальном платье.
Знал и я раньше,
да и недавно,
страх страницы…
Написать разве,
как над Нотр-Дамом
птицы, птицы.
Рассветал воздух,
воздух звезд. Луны
уплывали.
Транспорт пил воду
химии. Люди —
уповали.
Про Париж пели
боги и барды
(ваша — вечность!).
Ведь у вас — перлы,
бал — баллады,
у меня — свечка.
И метель в сердце —
наверстай встречи!
Где моя Мекка?
В жизни и смерти
у меня — свечка,
мой значок века,
светофор мига,
мой простой праздник,
рождество, скатерть…
Не грусти, милый,
все — прекрасно,
как — в сказке.
Гении горя
(с нашим-то стажем!),
мастера муки!
Будь же благ, город,
что ты дал даже
радость разлуки.
Башенки Лувра,
самолет снится,
люди — как буквы,
лампочки — луны,
крестики — птицы…
Будь — что будет!
В конце концов признанья — тоже поза.
Придет Овидий и в «Метаморфозах»
прославит имя тусклое мое.
Я лишь Дедал, достойный лишь Аида,
я лишь родоначальник дедалидов,
ваятелей Афин и всех времен.
В каком-то мире, эллинов ли, мифов,
какой-то царь — и Минос и не Минос,
какой-то остров — Крит или не Крит.
Овидий — что! — Румыния, романтик,
я вовсе не ваятель, — математик,
я Миносу построил Лабиринт.
Все после — критских лавров ароматы,
Геракл и паутинка Ариадны,
Тезея-Диониса маета,
Плутарха историческая лира
о быко-человеке Лабиринта,
чудовище по кличке Минотавр.
Читать дальше