Эту ее дискуссионную методику – в педагогической науке у нее есть, кажется, свой термин «эвристический принцип» – я усвоил хорошо и с удовольствием пользовал, когда учительствовал сам.
Вся отрада мамина была в школе. За три ташаузских года – да что: во всю нашу жизнь с ней так и не мелькнуло ничего, ни намека, ни признака того, что называется личной жизнью. Раз только, вернувшись из школы, застал я в гостях у нас степенного узбека (чи татарина), положительного пролетария (оказался кузнец) – откуда он взялся, решительно не помню, – и после ухода его мама с юмором сообщила, что приходил он вроде бы как посвататься, в чем получил отказ, уважительный, но непреклонный.
Иногда мама лирически вспоминала своих институтских кавалеров (о папе – не помню ни разу). Думаю, что эта сторона жизни была для нее зачеркнута лагерем и последующей долгой и упорной битвой за наше выживание. Лагерь страшно потряс ее – стоит только сравнить ее фото до и после. Она была красавица. Она была несомненно романтической натурой. Независимой и ответственной. Не лидер, не тамада – бескорыстный и вдохновенный работник. Эта привычка к труду благородная была ее спасением. Она трудилась все время, каждый день. Она просыпалась и тут же начинала что-то делать. Людей такого типа она сама называла «пчелками». Неутомимая пчелка после самых ужасных ударов все-таки снова и снова принималась за дело жизни – если не ради страны, то ради учеников, если и этого нельзя – то ради своих детей. Никогда ради себя, то есть это и было – ради себя.
Не помню ее плачущей. Один только раз (об этом позже). Думаю, что главные свои слезы она выплакала после ареста и затем в лагере. Там научилась она своему непреклонному упорству жить, жить – жужжать – несмотря ни на что. На ее послелагерном лице всегда видна эта печать несломленного человека.
Тот мой последний год Ташауза, когда она преподавала у нас в классе, мы жили как никогда дружно. Наперебой соперничали в стихоплетстве и всячески подтрунивали друг над другом. У Давида Самойлова – «В кругу себя»; у Корнея Чуковского – «Чукоккала»; у нас с мамой – «Ташаузский дневник».
Цитирую образчик:
Ода на шестнадцатилетие Юлия Кима
Тебе, о сын мой, ода эта,
Лирично-пламенный привет.
Хочу прославить я поэта,
Которому шестнадцать лет.
Хочу отметить дифирамбом
Твой день, значительный такой.
Пишу я чистокровным ямбом,
Почти онегинской строфой.
Строк не ломаю своевольно,
Стараюсь из последних сил,
Я избегаю рифм глагольных,
Чтоб не придрался мой Зоил.
(К совершеннолетию своему я уже довольно набрался молодой наглости делать своей учительнице замечания. Глагольные рифмы, вишь, меня не устраивали.)
На новый лад настрою лиру…
Итак, прошло шестнадцать лет.
В тот день ты громко крикнул миру
О том, что в жизнь вступил поэт.
Свое призвание, однако,
Сначала ты не осознал.
Ты был отчаянным воякой,
С утра до ночи воевал.
Под стол ты ползал на разведку,
Из-под стола врагу грозил,
Одним ударом, очень метким,
Ты вазу новую сразил.
(Очень хорошо помню злосчастную вазу, оказавшуюся на пути моей штыковой атаки с лыжной палкой наперевес. Это был розовый стеклянный сосуд с парашютами по бокам. Подарок маме от учеников. Помню ее огорчение и свое искреннее раскаяние.)
Расти, твори, бери вершины,
И будь веселым, боевым,
И оставайся верным сыном,
Надежным спутником моим.
Что ж, мы с мамой в Ташаузе жили, повторяю, дружно, и не думаю, что я был ей большой обузой. Суп сварить и сейчас сумею.
В 54-м я поступил в Московский педагогический (мамин), что на Пироговке, и, поступая, уже знал, как я буду преподавать литературу, если доведется. Хотя мечтал я стать писателем. И таки стал им. Но сначала – таки поучительствовал, девять лет без малого, и смело скажу: успешно, спасибо маме.
Она также перешла из школы в пединститут, только в Ташаузский, и не как студентка, а как преподаватель, и четыре года профессорствовала там, наезжая в отпуск к нам, в Москву, где сестра жила у теток, а я – в общежитии.
Очутившись на воле вне маминого и вообще чьего-либо контроля, я въехал в свой довольно затянувшийся переходный возраст и нередко огорчал сестру и маму своим эгоистическим невниманием или бестактностью. Тем временем ход истории неумолимо сводил нас в Москву. После беспощадного гласного развенчания Усатого кумира маму и папу реабилитировали, и я получил в Москве комнату в трехместной коммуналке: шестнадцать собственных квадратов на втором этаже новенького дома (и недалеко от того, где мы жили до арестов), туда и вернулась мама из Ташауза, но мы и года вместе не прожили, как я удалился работать на Камчатку, потом вернулся, женился, переехал к жене, а сестра из Серпухова – к маме. Так, через четверть века, семья наша наконец съехалась в Москве.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

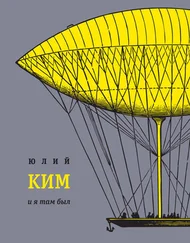
![Анатолий Ким - Будем кроткими как дети [сборник]](/books/86787/anatolij-kim-budem-krotkimi-kak-deti-sbornik-thumb.webp)








