Все-таки мало мы с ней пожили, мало. Не покидает чувство, что не успели поговорить как следует. Мама моя, мама… может, встретимся еще?
Если официально, то: Рачков Дмитрий Александрович, тамбовский доцент московского замеса, писатель. Мой друг. А в этом качестве – только Димыч. Мы учились в Московском педагогическом, он был старше меня на курс, а познакомились на каком-то семинаре по Маяковскому.
Димыч был мешковат, нетороплив, склонен к полноте, хоть пузо так и не отрастил. Скромный, никогда не тащил одеяло на себя, так, в сторонке, покуривал и усмехался. Но темные его глаза глядели зорко и весело.
Из постоянных увлечений у него было два: шахматы и музыка. Я в шахматах ничего не смыслю, но он увлекал меня своей увлеченностью, и во время матча Карпов-Каспаров я, бывало, плюхался рядом в кресло и таращился в телевизор, где комментировали очередную партию. Димыч переживал это так заразительно, что и я начинал испытывать неподдельный интерес.
Музыке же он нигде не учился, но знал ее хорошо, слух имел и любил напевать приятным баритоном. Пластинки собирал, на концерты бегал, – словом, завзятый был любитель-меломан, особенно Шостаковича любил.
Он приехал в Москву из провинции, после института и аспирантуры преподавал в Южно-Сахалинском педе, затем в Тамбовском университете. Заведовал кафедрой, заработал инфаркт, ушел на пенсию, второй инфаркт, бросил курить, и на 69-м году жизни настиг его третий инфаркт, последний.
Хор о м не нажил никаких: малогабаритная трехкомнатная квартирка с самой бесхитростной мебелью, это все. И это его тяготило – что не удалось обеспечить безбедную жизнь дочери с внуком, хотя дело было не в нем, а в беспощадном развороте нашего времени, всего нашего постсоветского катаклизма, приспособиться к которому было для Димыча слишком поздно.
Как и все мы, он жадно прожил главную пору нашего поколения шестидесятников, так называемый «оттепельный» период – это, стало быть (приблизительно), 1954–1968 годы. Для него это время оказалось ярчайшим и счастливейшим, и когда он стал писателем, он выполнил главное свое писательское дело: рассказал о нашей молодости, о наших разговорах, посиделках, переживаниях и предпочтениях, чт о мы читали, смотрели, пили, ели, курили…
Наше звонкое начало,
Наш растерянный разброд —
классически четко отразились в его биографии. Итак, молодой аспирант,
– начитавшийся Мартынова, Заболоцкого, Дудинцева, Шукшина, Трифонова, Тендрякова;
– наслушавшийся Шостаковича, Прокофьева, Свиридова, Галича, Евтушенко, Вознесенского, Ива Монтана и Эдит Пиаф;
– насмотревшийся импрессионистов, Пикассо, итальянского кино, спектаклей Таганки и «Современника»;
– переживший открытие Солженицына и травлю Пастернака, развенчание Сталина и новочеркасский расстрел, расцвет «Нового мира» и процесс Бродского, —
является в Южно-Сахалинский пединститут, где блистательно преподает восемь лет подряд.
Раза два-три в год навещал он Москву и с головой окунался в текущую жизнь столичной элиты, а главным содержанием этой жизни была реакционная реакция Кремля на допущенные при Хрущеве вольности и ответная попытка протеста со стороны интеллигенции, выразившаяся, главным образом, в бурном развитии самиздата и в том, что получило название «демократического (правозащитного) движения», или «диссидентства». За десять тысяч километров от этого котла карьера Димыча шла тем временем в гору, он уже был доцентом, студенты его обожали, накапливалась монография по Салтыкову-Щедрину, и складывалось обманчивое ощущение большой независимости от начальства, словно и в самом деле, по Пушкину,
Имеет сельская свобода
Свои счастливые права.
И хотя Димыч был человеком осторожным, на рожон не лез, но особо не берегся ни в разговорах, ни в чтении «крамольных» текстов, которые таки прихватывал с собою из столицы. Однако, как известно, Лубянка была самая высокая точка в Советском Союзе, откуда все видно, и Сахалин в том числе.
И грянула гроза над Димычем осенью 68-го года, и призвала его к ответу Госбезопасность и Партбдительность, и учинили ему идейную разборку, и с волчьей характеристикой удалили из любимого пединститута. Восемь месяцев рыскал он по Союзу, пока не зацепился за Тамбов.
Череду душеспасительных бесед и зубодробительных разносов Димыч прошел достойнейше, ни в чем не покаялся, сдал проклятый этот экзамен «на пятерку», что всю жизнь было его душевной опорой, тем более что немало народу в ту пору в сходных обстоятельствах отделывалось неуверенными «тройками». Однако нет у меня претензий к «троечникам». Спрос все-таки не с того, кто сломался, а с того, кто ломал.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

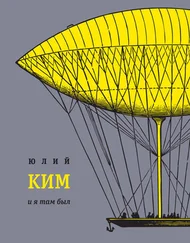
![Анатолий Ким - Будем кроткими как дети [сборник]](/books/86787/anatolij-kim-budem-krotkimi-kak-deti-sbornik-thumb.webp)








