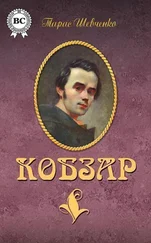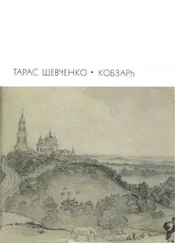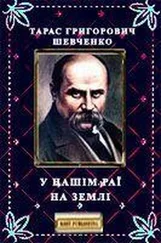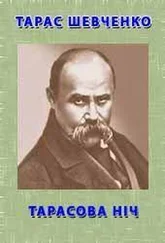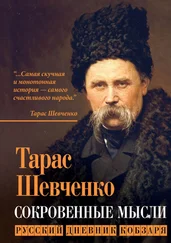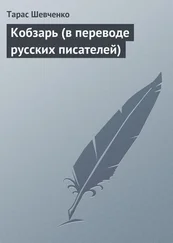«Я шучу, шучу, голубка».
«Шутки!» Улыбнулась.
И склонилася головкой,
будто бы уснула.
«Слышь, Оксана, пошутил я,
не думал обидеть.
Глянь же, глянь же на меня ты:
не скоро увидишь.
Завтра буду я далеко,
далеко, Оксана...
Завтра ночью нож свяченый
в Чигрине достану.
С тем ножом себе добуду
золото и славу,
привезу тебе наряды,
богатую справу.
Как гетманша, сядешь в кресло,
завидуйте, люди!
Стану тобой любоваться...»
«А может, забудешь?..
Будешь в Киеве с панами
ходить важным паном,
найдешь панну-белоручку,
забудешь Оксану».
«Разве ж есть тебя красивей?..»
«Может быть... Не знаю...»
«Не греши! На белом свете
краше нет, родная!
Ни на небе, ни за небом,
ни за синим морем...»
«Перестань же, что ты, милый,
нашел о чем спорить
по-пустому!»
«Нет, родная...»
И снова и снова
целовались, обнимались
они что ни слово,
обнимались крепко-крепко,
то вместе молчали,
то плакали, то клялися
и вновь начинали.
Говорил он ей, как вместе
славно жить им будет,
как он долю и богатство
сам себе добудет.
Как вырежут панов-ляхов
всех на Украине,
как он будет красоваться,
если сам не сгинет.
Говорил... Девчата, слушать
противно, ей-богу!..
Не противно, говорите?
Зато отец строгий
либо мать, когда застанет
вас за книжкой этой,
тут греха не оберешься —
сживут вас со света.
Ну, да что про то и думать,
занятно же, право!
А еще бы рассказать вам,
как казак чернявый
над водою, под ветлою,
прощаясь, тоскует,
а Оксана, как голубка,
воркует, целует.
Вот заплакала, сомлела,
голову склонила:
«Мое сердце! Моя радость!
Соколик мой милый!»
Даже вербы нагибались
послушать те речи.
Нет, довольно с вас, девчата,
а то близко вечер...
Не годится против ночи:
приснится такое...
Пусть их тихо разойдутся,
как сошлися, двое.
Пусть еще раз обнимутся
и разнимут руки,
чтоб никто их слез не видел,
горькой их разлуки.
Пусть... Кто знает, приведется ль
им на этом свете
вновь увидеться. Посмотрим...
Мудрено ответить.
А у ктитора в окошках
свет. Не спит, похоже.
Надо глянуть, но и видеть
не дай того, Боже!...
Не дай того видеть среди мирной хаты,
за людей от срама сердцу не страдать.
Гляньте, посмотрите: то конфедераты,
люди, что собрались волю защищать!
Вот и защищают. Да падет проклятье
на их мать родную, что их зачала,
на день тот, в который собак родила.
Гляньте, что творится у ктитора в хате.
Адские творятся на свете дела!
В печи — огонь. Огнем вся хата
освещена. В углу дрожит,
как пес, шинкарь. Конфедераты
терзают ктитора: «Скажи,
где деньги, если хочешь жить!»
Но тот молчит. Скрутили руки,
об землю грохнули. Молчит,
ни слова ктитор... «Мало муки!
Смолы сюда! Заговорит!
Кропи его! Вот так! Что — стынет?
А ну — горячею золой!
И рта, проклятый, не разинет!
Однако, бестия! Постой!
Давай еще побольше жару!
Да в темя — гвоздик! Что смола!»
Старик не вынес адской кары,
упал бедняга. Отошла
душа его без отпущенья...
«Оксана... дочь!» И все слова...
И палачи в недоуменье:
«Что делать дальше? Ничего,
панове, бросимте его,
запалим церковь!»
«Помогите, кто в Бога верует! Спасите!»
С надворья крик. Стучатся в двери.
В смятенье ляхи: кто такой?
Оксана вдруг: «Убили! Звери!»
И падает. А лях старшой
уже махнул рукою своре —
и та понуро вышла вон,
И сам за ней выходит вскоре
с Оксаной на руках...
Где ж он, Ярема? Что не заступился?
Не оглянулся? Он идет
и песню старую поет,
как Наливайко с ляхом бился.
И ляхи тронулись вперед,
с собою захватив Оксану.
И снова стихнула Ольшана.
Собаки гавкнут, замолчат.
Сияет месяц. Люди спят.
И ктитор сжит. Вовек не встанет;
он не проснется поутру.
Светец мигает через силу...
Погас... И как бы вздрогнул труп...
И темень в хате наступила.
Гетманы седые, если бы вы встали,
встали, посмотрели на свой Чигирин,
что вы созидали, где вы управляли,—
заплакали б горько и вы — не узнали
умолкнувшей славы убогих руин.
Базары — где строилось войско шумливо,
где оно, бывало, морем гомонит,
где ясновельможный на коне ретивом...
Взмахнет булавою — море закипит.
Закипело — разлилося
степями, ярами.
Вражьи силы отступают
перед казаками. Ну, да что там!
Читать дальше

![Тарас Шевченко - Кобзар [Вперше зі щоденником автора]](/books/33139/taras-shevchenko-kobzar-vpershe-zІ-chodennikom-avtora-thumb.webp)