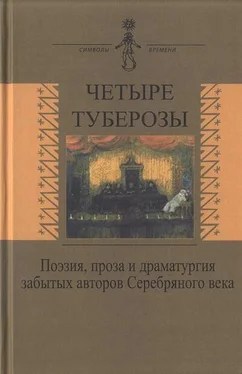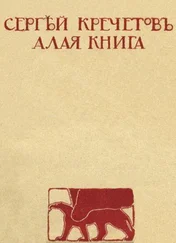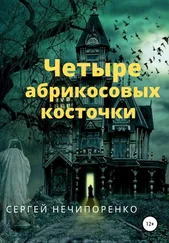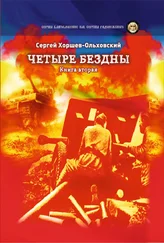«Другой» масон: масонствующий имперский патриот и антисоветский террорист… [62] Что, кстати, никем из предшествующих исследователей подробно не освещалось, поскольку (особенно заинтересованные) авторы, писавшие о его национально-патриотической деятельности, предпочитали дипломатично помалкивать относительно его масонства, а авторы, писавшие о его масонстве, старались обойти стороной «погромно-террористический» период, в то время как в его личности и то, и другое причудливым образом совмещались.
«Другая» «новая женщина»: одержимая огненным ангелом sanctus amor ведьма эпохи Реформации в реалиях московских и эмигрантских будней рубежа XIX и XX столетий… «Другой» христианин: прячущийся от христиан в лесах и водящий дружбу со стихийными духами… «Другой» национал-социалист: верный и фюреру, и России с её литературой… Не слишком ли много всего «ДРУГОГО» — такого, что во избежание лишних сомнений легче замять, чем позволить джинну выбраться из бутылки? Однако, как уже подразумевалось в начале этого очерка, сегодня обстановка позволяет нам робкими шагами возвращаться на утраченные некогда позиции. Одна из ведущих среди них — позиция так называемой «философии жизни» — после известных событий 1939–1945 гг., так же как и всё, о чём у нас идёт речь, подвергшаяся известной маргинализации. Одним из основных понятий философии жизни является «пере-живание», иными словами, внутреннее чувствование живущейся жизни. С нашей точки зрения, у каждого человека таковому «пере-живанию» наибольшим образом содействуют три момента, не зависящие от порядка их перечисления: Любовь, Борьба и Вышнее (для удобства назовём последнее Мистикой). Эти моменты подразумеваются в самом широком и не сводимом к узким границам смысле, а также в их многоразличной, вариативной, но непременной взаимосвязи. В представляемом сборнике каждый из них оставляет свой яркий след, и можно даже попытаться условно обозначить, что Любовь доминирует в произведениях Н. И. Петровской, Борьба — в произведениях С. Соколова (Кречетова) и Мистика — в произведениях А. А. Ланга (А. Березина / А. Л. Миропольского) и И. фон Гюнтера. Однако, следует понимать, что такая категоричность справедлива лишь отчасти, потому как в творчестве каждого из публикуемых авторов мы находим все три аспекта с разницею лишь в их пропорциональном соотношении.
Между тем, сказанное наводит на дополнительные размышления над той загадкой, отчего представляемые в данном сборнике авторы оказались обречены на вековой бойкот. Нам легко (или же, напротив, очень нелегко) представить себе любовь как комплекс регламентированных будничной обыденностью взаимоотношений между мужчиной и женщиной, нечто вроде общественного договора в миниатюре, борьбу — как повседневную свару за кусок хлеба и место под солнцем и, наконец, мистику — как свод экзотерических суеверий и предрассудков, запрудивших опустевшее духовное пространство, — такова сегодняшняя действительность. Все три аспекта, на первый взгляд, сохраняют собственные места, однако несложно заметить, что они попросту выхолощены, каковыми их делает допущенное (а применительно ко дню сегодняшнему даже желательное) отсутствие в них такого дополнительного маргинального понятия, как «фанатизм», коего не лишено ни одно из произведений воскрешаемых публикацией настоящего сборника авторов. Только такое «горение» способно одухотворять и выводить на иной, высший уровень все означенные аспекты. И именно наличие в произведениях данных авторов этого «неудобного» понятия (а вовсе не отсутствие нужного «градуса» даровитости!), на наш взгляд, и их самих делало «неудобными» как для более знаменитых современников и критиков с обеих сторон, так, тем более, и для последующей эпохи — вплоть до нынешнего дня, который все-таки настал и повлек за собой неизбежную переоценку ценностей.
«К лету выветрился из комнат ядовитый аромат неизбежных по тому времени тубероз», — писала в своих воспоминаниях Н. И. Петровская [63] Жизнь и смерть Нины Петровской. Публикация Э. Гаррэто // Минувшее. Исторический альманах. М., ОО Феникс, 1992, № 8 (с. 33).
. В самом деле, в конце XIX века бледно-восковой цветок туберозы оказался востребован в особенности, поскольку его пьянящий аромат находили созвучным декадансу, и в рассказе «Осень» всё той же Н. И. Петровской мы ещё раз обнаруживаем яркую апелляцию к этому символу, который своим нежно-горьким ароматом и печальным обликом буквально сливался с веяниями времени. Бескровные, облетающие от одного лишь дуновения лепестки туберозы источали одновременно ароматы страсти и распада. Насыщенное, дурманящее и вместе с тем удушающе-ядовитое благовоние «королевы ночи», как ещё именовали туберозу, балансировало на грани упадка, смерти и крайней чувственности.
Читать дальше