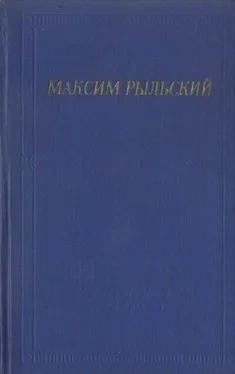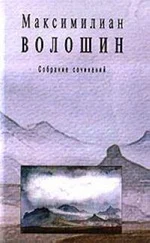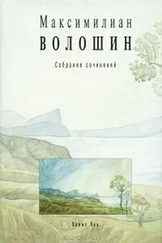Теперь Кондрат и в вёдро и в ненастье
Легавыми, борзыми окружен,
Звериный след разглядывает он
И по болотам дупелей, как прежде,
Стреляет с паном… В золотой одежде
Ложится солнце в светлую постель, —
Какую же Кондрат наметил цель,
Куда стремится он? Вопрос тяжелый!
Для всех свое: одним пить мед веселый,
Другим — сивуху, а конец один.
Ищите романтических причин
Или других, прошу, коль есть охота!..
Вернувшись с бекасиного болота,
Пристроился Кондрат в конце стола,
Спросил стакан, другой, — и тут пошла
Охотничьих рассказов вереница.
От них невольно по уши у Гриця
Пилипчука раскрылся пухлый рот.
Пан Ма́рьян, украинский «патриот»
И польский (этот сорт и нам известен),
Любил внимать, как Гриць старинных песен
Выводит чистый переливный шелк.
Случилось, впрочем, как-то — Гриць умолк,
Не хочет петь, а в тот момент Медынский
Вошел в экстаз свой архиукраинский:
«Давай! — кричит. — Казачью запевай!
Ведро поставлю! Два ведра! Пускай
Старинной Сечи слава встрепенется!»
А Гриць безмолвен и не шелохнется,
Нахмурился, и руки на груди…
«Капризен, зверь!» Читатель, посуди:
Не диво, если пан Марьян, как порох,
Как молния в нахмуренных просторах,
Как жаркий факел смоляной, вспылил.
Ну, раза два ударил… ну, схватил
За плечи парня… свитка затрещала…
Что ж? Абрамович, тот с двух слов, бывало,
За пистолет… Иной на этот счет
Медынский… День-другой прошел — идет,
Встречает Гриця… Улыбнулся даже!
Итак, Кондратка сочиняет в раже
(Кондраткой он, похоже, и умрет)
Про «медведе́й», что пуля не берет,
Про сто волков, что сани окружили,
Про куропаток, что в степи водили
Охотника до смерти меж снегов,
Про знахарей, что заклинали кровь,
И слабодушным трусость «выливали»,
И бесов из оружья выгоняли,
Во всех житейских трудностях ловки.
Гаврило, опершись на кулаки,
Мечтает… Гриць, как мальчик изумленный,
Залезший на колени к бабке сонной
Послушать сказку уж не в первый раз,
С охотника не сводит синих глаз
(Ведь сказка-то чудесная какая!)
И слушает, от страха замирая.
Ну, кум Кондратка! Ну, бывалый кум!
А по лесу бредет весенний шум,
Березам белым косы расплетает,
Ласкает небо, тучи подгоняет
И веет освежающим крылом
Над нищим, безысходным бытием
Людей, чья доля — горе да тревоги,
Кого к корчме приводят все дороги…
Смеется шум, да горек этот смех.
Приход Наума радостен для всех:
Раз новый гость — еще предлог для пива.
Однако же старик немолчаливый
Лишь пьет, сопит, чадит махоркой злой…
Тут разглядел бы даже и слепой,
Глухой подслушал: тайное волненье
В уме кружится одинокой тенью,
Как черный коршун в дремлющих степях…
Недавний страшный случай на устах,
Но все молчат, без слова понимая,
Что за причина, что, как ночь глухая,
Сидит старик, подавленный тоской:
Чужое горе разгадать легко
Без слова — крепостным беда знакома…
И слез не надо, слезы — прах, солома:
В груди — страданий твердое зерно.
Друзья мои! Прошло давным-давно
Всё то, что на бумаге не поблёкло,
Видением сквозь матовые стекла
Неясно проступая… И дотла
Сгорел Наума гнев, и умерла
Любовь Марины; землю озаряя,
Бушуют грозы с края и до края,
И новиною прорастает даль…
Печаль!.. Забыты слезы и печаль
В дни разрушения и созиданья,
И горечь этой песни о страданье —
Наследье горьких песен прежних. Нет!
Не размягчай сердца, зови, поэт,
В мир творчества и радости бурливой,
Где реют флаги алые. Зови!
Вот цель живая повести тоскливой,
Цветок, что вырастает на крови.
Пой безотрадней, горше, Гриць кудрявый!
…Упали стены… Распростерлись травы
Кругом… Вот чайка плачет в вышине…
Вот скачет всадник на лихом коне…
Вон чье-то там, в окне, лицо мелькнуло…
Шинкарка Настя к косяку прильнула
И странно улыбается. Кондрат,
Как узник за решеткою, объят
Тоской по воле, что видна так близко,—
Кипит огнем. Шинкаркин сын Дениска,
Лобастый, шаловливый, озорной,
Украшенный пшеничною волной
Кудрей, стоит недвижно возле дома
И слушает, и слушает: знакома
И незнакома песня… А скрипач
Гаврило то безмерный горький плач,
То радость слышит, хлынувшую морем.
Пой, Гриць! Дай силы истомленным горем,
Надежды — скорбным, жизни — хилым влей!
Сокровищами души их засей!
Пусть у хмельного старика Наума
Зловещая на черных крыльях дума
(Ведь от нее поник он головой)
Взрастет, взовьется тучей грозовой,
Ударит… эх! Молчи, и так постыло, —
Умолкни, сердце!
Скрылся легкокрылый
Последний звук. Опять корчма, стена,
И мокрый стол, и синяя волна
Махорочного дыма. Вновь сивуха,
И о́бразов безумных завируха,
И крик, и шутки: подневольный рай…
«Гаврилко! Что ж ты там? А ну, сыграй
Веселую!» — «Я, братцы… право слово,
Я, брат…»
И вдруг из-под смычка живого
Частушки дробью сыплются в углы…
Читать дальше