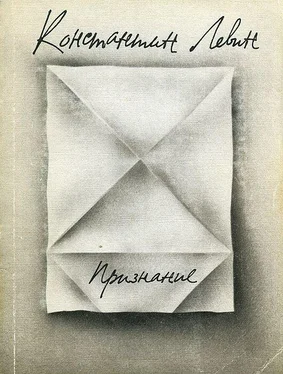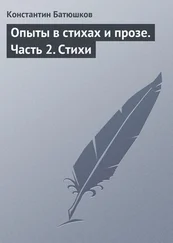Но где-то, Валя, на белом свете,
Охрипши, оглохши, идут в поход
Младшие лейтенанты эти —
Тридцать восьмой курсантский взвод.
Россию стянули струпья курганов,
Европа гуляет в ночных кабаре —
Лежат лейтенанты, лежат капитаны
В ржавчине звездочек и кубарей…
Сидят писаря, слюнят конверты
(Цензура тактично не ставит штамп),
И треугольные вороны смерти
Слетаются на городской почтамт.
И почтальонши в заиндевелых,
В толстых варежках поскорей
Суют их в руки остолбенелых
И непрощающих матерей.
И матери рвут со стены иконы,
И горькую черную чарку пьют,
И бьют себя в чахлую грудь, и драконом
Ошеломленного бога зовут.
Один заступник у их обиды —
Это «эрэсов» [2] «Эрэс» — реактивный снаряд.
литой огонь!
Богиня возмездия Немезида
Еще не сняла полевых погон…
1945–1947
«А где-нибудь сейчас в Румынии…»
А где-нибудь сейчас в Румынии
По-прежнему светает рано,
И как упал на поле минное,
Так и лежит мой друг Степанов.
Лежит, под Яссами схороненный,
Двумя шинелями покрытый…
Но не забытый нашей Родиной,
Своей Россией не забытый.
И, на гулянье пригорюнившись
И в круг веселый не вступая,
О нем, о русском храбром юноше,
Поет румынка молодая.
Не надо громких слов, товарищи,
Не надо реквиемов черных:
Боль и без них неостывающей
В сердцах пребудет непокорных.
И все-таки хотел бы в старости
Приехать снова в те пределы,
Где нашей юности и ярости
Суровая звезда горела!
Где шла моя большая Родина
Твою судьбу спасать, Европа.
Ты сосчитала ль — сколько рот она
В твоих оставила окопах?
Так пусть вовек не забывается,
Ни за какою сединою,
Тот час, тот бой, что называется
Отечественною Войною.
1950
«Под вуалью лед зеленый…»
Под вуалью лед зеленый,
А помнишь года:
Тебя мчали эшелоны
Бог знает куда…
Под вуалью жар карминный,
А помнишь года:
Шла ты по тропинке минной
Бог знает куда…
С кем пила ты, с кем спала ты,
Храни про себя.
От траншеи до палаты
Носила судьба.
И со мной примерно то же
Случалось тогда,
Тоже выжил, тоже прожил
Все эти года.
Тоже лучших, тоже верных
Друзей схоронил,
Пью в их память сладкий вермут,
Сырец раньше пил.
Неудобно рюмкой тонкой
Его распивать,
Как негоже песне звонкой
На тризне бывать.
Пей за мертвого солдата,
За сердце его…
А желать ему не надо
Уже ничего…
1947
«Мы непростительно стареем…»
Мы непростительно стареем
И приближаемся к золе.
Что вам сказать? Я был евреем
В такое время на земле.
Я не был славой избалован
И лишь посмертно признан был,
Я так и рвался из былого,
Которого я не любил.
Я был скупей, чем каждый третий,
Злопамятнее, чем шестой.
Я счастья так-таки не встретил,
Да, даже на одной Шестой!
……………………
Но даже в тех кровавых далях,
Где вышла смерть на карнавал,
Тебя — народ, тебя — страдалец,
Я никогда не забывал.
Когда, стянувши боль в затылке
Кровавой тряпкой, в маяте,
С противотанковой бутылкой
Я полз под танк на животе,
Не месть, не честь на поле брани
Не слава и не кровь друзей,
Другое смертное желанье
Прожгло мне тело до костей.
Была то жажда вековая
Кого-то переубедить,
Пусть в чистом поле умирая,
Под гусеницами сгорая,
Но правоту свою купить.
Я был не лучше, не храбрее
Моих орлов, моих солдат,
Остатка нашей батареи,
Бомбленной шесть часов подряд.
Я был не лучше, не добрее,
Но, клевете в противовес,
Я полз под этот танк евреем
С горючей жидкостью «КС».
1947
«Пусть кинет друг и женщина оставит…»
Пусть кинет друг и женщина оставит.
Его простим, ее не станем звать.
И пусть нас так распишут и прославят,
Что собственная не узнает мать.
Она одна пойдет за нашим гробом,
Скрывая унижение и страх,
И пусть людская мелочность и злоба
Нам не изменит на похоронах.
Иль пусть в пустыне мы умрем от жажды,
А ливень запоздает лишь на час,
Но только б ты, поэзия, однажды
Не отступилась, наконец, от нас.
Покуда ты не скидан в кучи
И, следовательно, летишь
Как бы иронией летучей
На пустоту полей и крыш,
Читать дальше