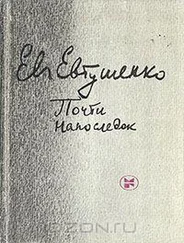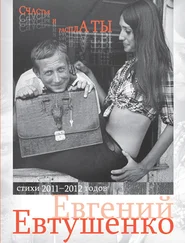Но ведь эта же революция и отобрала у него столько – в том числе и возможность ездить в Париж, когда хочется, а не когда в виде подачки «посылают».
Вернее, не отобрала, а выдрала. Как зубы.
Время – это дантист, вырывающий нас из нас без анестезии.
«Решетчатые радиолокаторы вращались, как зубоврачебные кресла».
Катаев заставлял себя любить отвратительные жирные волосатые пальцы новой власти с черными ободками под ногтями, лезущие с зубодерными клещами в глотку и душу.
Это ее, новую власть, он описал в образе остервенелой бабищи, присасывающейся к уху каждого нового сожителя с захлебывающимся сладострастным шепотом: «А теперь – вещи покупать!»
Еще в ранних двадцатых Катаев брезгливо высмеивал политические вопросники и сходящих с ума от зубрежки совслужащих. «Кто ренегат? Каутский. Кто депутат? Пенлеве».
Это была любовь не от любви. Любовь от страха. Любовь от отсутствия выбора.
Петя Бачей больше всего в революции любил Гаврика. Но в тридцать седьмом году у взрослого Гаврика был только один выбор – либо стать палачом, либо жертвой.
Катаев именно в 1936 году лихорадочно начал писать свою гениальную книгу «Белеет парус одинокий», закутавшись, как в кокон, в собственное детство, но время от времени вынужден был высовывать из этого кокона авторучку, чтобы подмахнуть очередное письмо, разоблачающее врагов народа. Иначе его самого могли бы вытащить из этого кокона и швырнуть на плаху.
Говорят, что талант – это Божий дар. Но дьявольский договор можно заключить и с Божьим даром. Не перестает ли он от этого быть Божьим?
Не будь у Катаева звериного инстинкта самосохранения, писателя, может быть, не в чем было бы морально упрекнуть, но зато он, наверное, не смог бы выжить и написать ни «Белеет парус одинокий», ни «Святой колодец», ни «Алмазный мой венец», ни «Траву забвенья», ни беспощадный приговор революции в своем самом страшном произведении: «Уже написан Вертер».
А из-за того, что он выжил, не гнушаясь любой ценой, мрачноватый блик усталого цинизма лежит и на его феноменально написанных последних книгах. Катаев был циник особого советского типа – циник романтичный, циник, артистичный до мозга костей, циник, ненавидящий циников, циник, порой щедрейше помогавший всем, от кого цинизмом и не пахло.
Это был цинизм с сентиментальными порывами. Это был слишком непредсказуемый, неуправляемый вид цинизма, не способный, правда, на Голгофу, но способный на упрямство, неподчинение и на прочие капризы, непозволительные с точки зрения цинизма правящего и амебного цинизма большинства.
Катаев самоспасительно и самоубийственно изо всех сил пытался внушать себе любовь к революции. «Какой бы я ни был, я обязан своей жизнью и творчеством Революции. Только Ей одной. Я сын Революции. Может быть, плохой сын. Но все равно сын».
Только ей? А как же Бунин? Что-то не складывается… Может быть, от этого и возникают такие неприятные пассажи в «Траве забвенья»?
«Потом уже я понял, что он не столько желчный, сколько геморроидальный» (это о Бунине), или:
«Мне кажется, я нашел определение того белого цвета, который доминировал во всем облике Веры Николаевны. Цвет белой мыши с розоватыми глазами».
Не защищался ли этим сарказмом Катаев от собственного коленопреклоненного пиетета перед Буниным, не спасался ли он этими холодными наблюдениями «злого мальчика» от зависти к нищему изгнаннику, лишь временно вырученному Нобелевской премией? Чему же завидовал Катаев?
Видимо, самой Нобелевской премии – и, думаю, не без этой зависти он подписывал письма, клеймящие Пастернака и Солженицына. Но, главное, он завидовал бунинской нищей свободе от всего, от чего не был свободен он. К этой свободе (но ни в коем случае не нищей!) Катаев всю жизнь по-ученически продирался, и это почти получилось в конце жизни. Почти.
Он остался несвободен от ревнивой злинки к тем, кто не выжил, кого нельзя было упрекнуть в том же, в чем его, – в долгожительстве за счет совести.
Вдова Бунина поразила его тем, что при встрече через лет сорок поставила на стол любимые им в подростковом возрасте пирожные.
– Откуда вы знаете, что я люблю меренги?
– Помню, – грустно сказала она. – Однажды вы сказали, что когда разбогатеете, то будете каждый день покупать у Фанкони меренги со взбитыми сливками.
Мне кажется, что самое главное для Катаева – было пить «Вдову Клико» и есть меренги, а при каком режиме – не важно.
Но при Сталине или даже Хрущеве можно было пить редчайшее изумрудное «Мцване», настоящую, а не сегодняшнюю поддельную «Хванчкару» и сколько угодно шампанского, но только советского, а не «Вдову Клико». А меренги можно было, конечно, заказать в «Праге», но все-таки не у Фанкони!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу