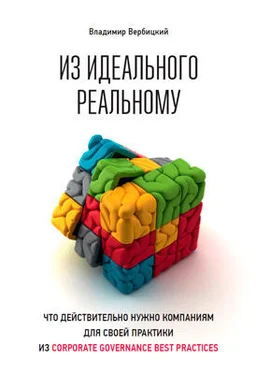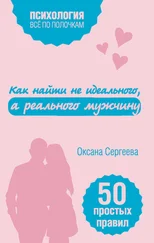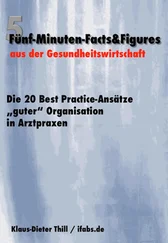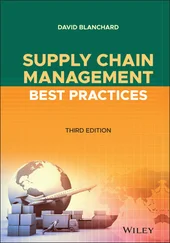Четвертое.Кодекс посвящает целую главу корпоративному секретарю компании. Эта позиция имеет сильные управленческие полномочия в англосаксонской модели корпоративного управления. Но в российской управленческой системе вопросами корпоративного управления, как правило, занимается другое должностное лицо – директор по корпоративному управлению. Отдельно выделенная позиция корпоративного секретаря является для наших компаний в определенной степени избыточной, и компании предпринимают и будут предпринимать усилия для избегания возможного раздвоения управленческого функционала.
Пятое.Даже в «Принципах корпоративного управления ОЭСР» указывается, что в одноуровневой структуре управления (и в России тоже. – В. В. ), если посты главы исполнительного органа и совета директоров совмещены, то целесообразно вводить позицию «ведущего неисполнительного директора» (старшего независимого директора, по российскому Кодексу. – В. В. ). Известные специалисты в области корпоративного управления Р. Парсон и М. Файген, ссылаясь на практику американских компаний, тоже пишут, что «если на роль председателя выбран гендиректор, то большинство советов директоров (97 % из S&P500) назначает ведущего или председательствующего независимого директора»{77}. Но в России такое невозможно по закону! Кроме того, в российской практике корпоративного управления пока идет довольно болезненный процесс формирования советов директоров в качестве полноценных органов управления, а на его фоне и параллельный процесс становления председателей советов в качестве их полноценных руководителей. А в госкомпаниях с уходом из советов директоров высокопоставленных чиновников с этих постов идет еще более сложный процесс передачи председателям советов из внешних профессиональных директоров реальных управленческих полномочий от этих чиновников, чтобы эти полномочия не «ушли» вместе с ними. В этой ситуации с введением позиции старшего независимого директора появится еще один центр власти, а учитывая присущий российской управленческой культуре высокий уровень дистанции власти по Г. Хофстеде, это приведет фактически к известному процессу «перетягивания одеяла на себя». Ничего хорошего для эффективной работы совета директоров в этом случае я не прогнозирую.
Шестое.Кодекс рекомендует, кажется, разумное для российской действительности и стадии становления института независимых директоров число независимых директоров в количестве не менее одной трети от состава совета директоров. Но когда мы начинаем суммировать рекомендации по независимым директорам в составе ключевых комитетов, то получается, что этой трети явно не хватает: комитеты по аудиту и вознаграждениям полностью состоят из независимых директоров, в комитете по номинациям – большинство независимых. Фактически через рекомендации по составу комитетов Кодекс рекомендует уже иметь даже не простое большинство независимых директоров в совете, а подавляющее большинство. По моей практике и наблюдениям, в огромном большинстве российских компаний столько независимых директоров с необходимой компетенцией и не набрать. Даже для публичных компаний, думаю, это будет серьезная проблема. Р. Леблан и Дж. Гиллис вообще ссылаются на исследования, подтверждающие, что «нет эмпирических данных в пользу нынешних предложений, чтобы в совете подавляющее большинство составляли независимые члены»{19}. А в управленческом плане мне непонятна такая уж необходимость составлять комитеты только из независимых директоров. В условиях становления институтов комитетов крайне важно, по теории управления изменениями, не допустить отторжения новых управленческих структур со стороны уже существующих. Считаю, что крайне важно на данном этапе их внедрения в практику российских компаний, даже публичных, обязательное участие в работе комитетов с правом голоса представителей менеджмента компаний и внешних экспертов с необходимыми компетенциями. Комитеты должны стать площадками для действенных и содержательных коммуникаций между членами советов директоров, менеджментом и внешними экспертами для формирования комитетов именно как институтов.
Лично для меня эти шесть примеров неадаптации российского «Кодекса корпоративного управления» к российским управленческим и ментальным особенностям являются примером прямого переноса инструментов решения проблем из одних условий в другие, что неверно. Нужно понимать, что для высококонцентрированной и «распыленной» структур собственности, которые характерны для российских и американо-английских компаний соответственно, имеют место свои проблемы и свои способы их решения. Для российских компаний характерен, в частности, «диктат» собственника, а для американо-английских – «диктат» менеджмента. Поэтому-то в PhICS-модели корпоративного управления идет речь о факторе С (требуемый уровень контроля со стороны основных собственников) применительно к собственникам, а не к менеджменту. Тарун Ханна из Гарвардской школы бизнеса как нельзя лучше говорит об этой проблеме: «Опыт, полученный в одном месте, в других зачастую нисколько не помогал»{37}.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу