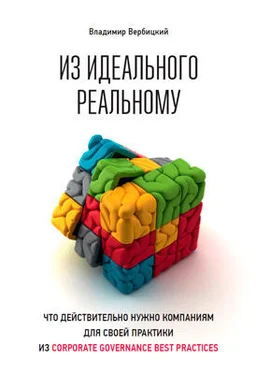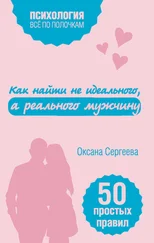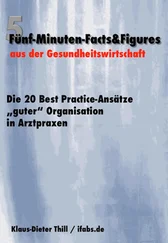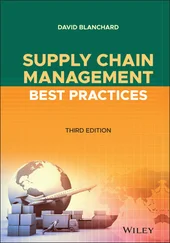Следует иметь в виду, конечно, что это проблема не только российских компаний, о чем довольно убедительно говорит Р. Румельт в книге «Хорошая стратегия, плохая стратегия» применительно ко многим руководителям: «лидер может принять решение, руководствуясь исключительно шестым чувством»{8}. Просто у нас в стране этот метод приобретает, возможно, гипертрофированный характер. Р. Румельт же проводит очень интересную аналогию между бизнес-стратегией и наукой, говоря, что «задача создания хорошей стратегии имеет такую же логическую структуру, как и задача предложить достоверную научную гипотезу», а «важнейшим элементом любого успешного бизнеса является научное индуктивное мышление»{8}. И если наши компании находятся еще в состоянии осмысления необходимости наличия в компании стратегии и только, пожалуй, передовые среди них воспринимают это как данность, то зарубежные коллеги, как, например, основатель компании Intel Энрю Гроув, говорят уже категориями, характеризующими внутренние аспекты стратегического управления компаниями, – такими как «стратегически переломные моменты», когда «старая (не просто стратегия, а уже даже «старая» . – В. В. ) стратегия уступает место новой, позволяя компании подняться к вершинам; когда соотношение сил меняется: старая структура, старые способы ведения бизнеса и старые модели конкуренции уступают место новым»{84}. Разработчики же крайне неординарного и всемирно известного подхода «стратегия голубого океана» Ким Чан и Рене Моборн, проанализировав не один десяток феноменальных мировых компаний, пришли к выводу, что для создания устойчивой бизнес-модели требуется не просто наличие в компании толковой стратегии, а соблюдение правильной стратегической последовательности{145}. Это говорит о том, что «копают», то есть погружаются в проблематику стратегического управления компаниями, наши зарубежные коллеги значительно глубже нас. Ну а где глубже копают, там и урожай будет лучше.
Средняя государственная научно-исследовательская компания (выручка – 25 млн долл.)
• 100 %-ное участие государства, научно-исследовательский проектно-инженерный институт. Этап «встраивания» в постреформенную модель функционирования российской электроэнергетики.
• Совет директоров – федеральные чиновники высокого уровня, два независимых директора и два профессиональных поверенных (в рамках программы замены ими чиновников), нет главы исполнительного органа компании.
• Низкий уровень корпоративного управления. Декларируемая топ-менеджментом готовность изменить ситуацию.
• Наличие в совете директоров «прогрессивных» чиновников (бывшие топ-менеджеры РАО «ЕЭС»). Первые действия только на основе «инструкций» ФАУГИ, отсутствие сигналов о комплексном внедрении стандартов корпоративного управления.
• Утверждение стратегии развития голосами независимых директоров и профессиональных поверенных, создание системы КПЭ.
• Уровень развитости системы корпоративного управления сильно отставал от значений ключевых факторов развития и потребностей бизнеса компании. За три года удалось существенно продвинуться в формировании эффективного совета директоров и системы корпоративного управления.
В связи с этим не могу не вспомнить ситуацию, когда я наблюдал за работой тракториста в центре Стокгольма в перерыве между занятиями одного из учебных модулей обучения в Стокгольмской школе экономики. Минут пятнадцать, греясь в лучах весеннего солнца, я смотрел на его действия, как он умело управлял своим небольшим трактором, а по сути – многофункциональным манипулятором с несколькими навесными элементами. И, подсознательно анализируя его действия, как технарь по образованию и с детства, проведенного в сельской местности, знакомый с этой тракторной техникой, я стал осознавать, что они мне не до конца понятны. Мне казалось, что он усложняет себе работу, что ее можно упростить. Но для этого нужно было бы попросить о содействии кого-то из двух коллег по их общей задаче, которые в данный момент выполняли другую работу. Во мне доминировал коллективизм, тоже подсознательно, как у бывшего пионера и комсомольца, который не позволял понять «капитализм» бизнес-процессов, которыми, уверен, что тоже подсознательно, оперировал шведский тракторист.
Когда я затем поделился своими наблюдениями и сомнениями с преподавателями и коллегами, то получил пояснение, что каждый из работников бригады специализируется на определенных операциях и максимальная суммарная эффективность их бригады достигается, только если они не отвлекаются, в том числе и на помощь друг другу. Их бизнес-процессы оптимизируют совместную работу, а не каждого участника по отдельности. Именно так достигается максимальный результат. Это и есть декомпозиция их стратегии до уровня бизнес-процессов исполнителей. Но самое важное, что тракторист делает свою операционную работу подсознательно, не думая обо всех этих сложностях. Это у него уже «зашито» в голове. А мне вот потребовалось «покорпеть» над этим. Вот какова разница между нашими экономиками и с их производительностью, если мне, человеку с тремя высшими образованиями, включая бизнес-образование, нужно напрячься, чтобы понять рутинные действия шведского тракториста. Этим кейсом я с восхищением поделился на совещании преподавателей менеджмента московских вузов (именно на той встрече я приглашал их пойти в советы директоров госкомпаний и помочь нашему государству в построении современного управления нашими «общенародными плохо управляемыми активами»), когда они с восхищением вспоминали советское управленческое прошлое с предложением оставить его для истории, а воспитывать современных менеджеров на современных высокопроизводительных кейсах из лучших экономических моделей. Мне показалось, что к моему восхищению позитивно отнеслось меньшинство. И что же за менеджмент изучают наши российские студенты, подумал я тогда?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу