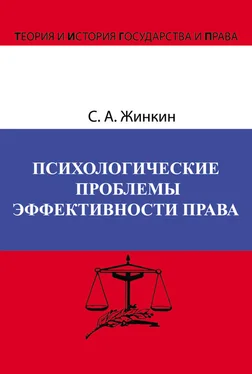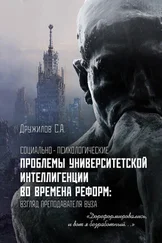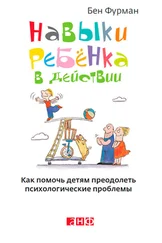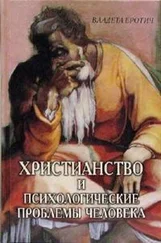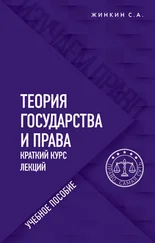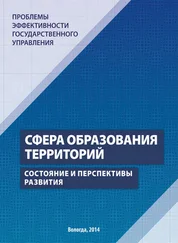Во-вторых, расширяется диапазон скоростей управляемых процессов, что не может не отражаться на правовом регулировании этих процессов.
В-третьих, в современном производстве человек, как правило, не воспринимает управляемые объекты непосредственно; между органами чувств человека и предметом труда «вклинивается» система технических устройств; информация о предмете труда поступает в закодированном виде, а также в виде различных комментариев, толкований, экспертных оценок.
В-четвертых, использование современной техники нередко сопряжено с необходимостью работать в особых, непривычных для человека, условиях. Все это сопровождается изменениями в поведении человека и его психологическом состоянии, что, несомненно, должно учитываться при выборе средств правового регулирования с целью повышения его эффективности.
В связи с перечисленными тенденциями изменяются требования к восприятию, вниманию, памяти, мышлению, поведенческим установкам личности. Естественно, должны изменяться и требования к регулированию поведения людей, к воздействию на их эмоционально-волевую сферу.
В психологии иногда высказывалось мнение о том, что технический прогресс приводит к снижению уровня мотивации в трудовой деятельности человека [685]. Думается, что в данном случае вообще можно говорить о выхолащивании целей и мотивов человеческой деятельности.
Таким образом, современная цивилизация накладывает серьезный отпечаток на внутренний мир человека и его поведение. При этом современное общество и его регулятивная система «мягко» подавляют личность, подвергают ее внутренний мир своеобразной «принудительной унификации». В связи с этим хотелось бы заметить, что стремление к эффективности социальных предписаний в современных условиях глобализации и унификации многих процессов, норм и отношений, очевидно, не должно сопровождаться попытками нивелировки конкретной личности, подавлением ее индивидуальности, сужением возможностей для ее самореализации.
Анализ сущностных качеств человека, а также особенностей взаимоотношений личности и общества в современном мире и их влияния на эффективность права, по нашему мнению, был бы неполным без этнопсихологических характеристик современного российского человека. Исследование особенностей российского менталитета важно еще и в связи с тем, что «евразийская сущность России часто понимается как реальная возможность метаисторического диалога между материалистическим, стремящимся к постоянной технологической экспансии в природу Западом и духовным, сохранившим воспоминания о великой гармонии с природой Востоком» [686].
Итак, очевидно, что исследование эффективности права как социально-духовного регулятора неотделимо от изучения ее этнопсихологической основы – менталитета народа. Прежде всего кратко охарактеризуем само понятие «менталитет».
В литературе менталитет определяется как «общая духовная настроенность, относительно целостная совокупность мыслей, верований, навыков духа, которая создает картину мира и скрепляет единство культурной традиции или какого-либо сообщества» [687].
Впервые термин «ментальность (менталитет)» был введен американским философом Р. Эмерсоном в 1856 году при изучении им центрального метафизического значения души как первоисточника ценностей и истин [688]. Э. Дюркгейм понимал менталитет как «совокупность общих верований и чувств, свойственных в среднем членам какого-либо общества» [689]. Заметной вехой в истории развития понятия менталитета стали труды Л. Леви-Брюля [690], Э. Кассирера [691], А. де Токвиля [692], в которых менталитет определялся через категорию сходных принципов мышления и систему правил, которыми руководствуются люди, управляя своей умственной деятельностью.
Основные проблемы менталитета исследовались в работах Л. Февра. Он отмечал, что привычки и установки, навыки, восприятия и эмоциональная жизнь, то есть менталитет, наследуются социумом от предыдущих поколений без четкого осмысления этого. Менталитет, таким образом, восходит к бессознательным глубинам психики [693].
Сведение менталитета к коллективному бессознательному характерно для целого ряда современных исследователей. Так, Ф. Арьес указывает: «Менталитет – коллективное бессознательное или, лучше сказать, коллективное неосознанное, культурный субстрат, который в определенный момент оказывается общим для социума в целом и не осознается современниками, ибо представляет для них нечто само собой разумеющееся» [694].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу