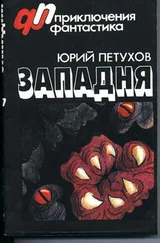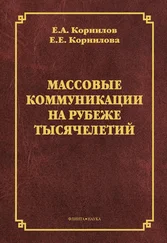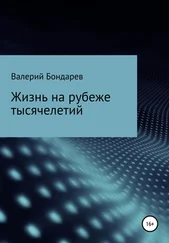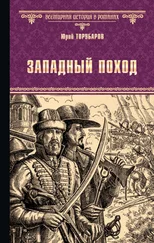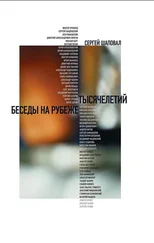По 80-летней давности наблюдению Э. Трёльча, «церкви теряют их власть над духовной жизнью народов, и многие их функции сегодня исполняются деятелями образования, литературы, управления, независимыми религиозными ассоциациями. В этих условиях католический тип церковной организации был вынужден практиковать возрастающее мощное внешнее доминирование над сознанием людей. Протестантские церкви, с другой стороны, не практиковали такого влияния. Это происходило по двум причинам: 1) поскольку они недостаточно энергичны, чтобы быть способными делать это; 2) поскольку их субъективная интерпретация идеи Церкви предполагает явные тенденции, прямо противоположные развитию подобного рода. Таким образом, они оказались неспособными выдержать влияние сектантского типа церковной организации и мистицизма – тенденций, имеющих близкое родство с современным миром. Поэтому протестантский тип сохранился с помощью сектантских идей и идеалистического и мистического релятивизма. Протестантизм уже не является чистым типом церковной организации, а церковный дух конформизма вызвал рост возмущенного протеста против такого безальтернативного развития, равно как и тайное или явное обращение взглядов на католические идеалы. Протестантизм развивается в настоящее время по следующим направлениям: разделение между Церковью и государством; сдерживание стремлений к формированию новых церквей; независимость отдельных конгрегаций; трансформирование государственных церквей в народные церкви с единой системой управления, в то время как отдельным конгрегациям предоставлена свобода в организации собственного управления; по этому основанию, как бы то ни было, эти церкви несут в себе определенный запас взрывчатки, являющийся постоянной угрозой их существованию» ( Troeltsch Е. The Social Teaching of the Christian Churches. Vol. II. Louisville; London, 1992. P. 1008–1009).
Что касается свободного религиозного творчества, то за околицей «традиционного» протестантизма сегодня начинается область полнейшего произвола, смешения ересей, язычества, идолопоклонства и откровенной бесовщины, от проповеди Слова Божьего в перерывах между сеансами аэробики до провозглашения «божественного» достоинства представителей поп-культуры.
177. См.: Давыдов Ю.Н. Макс Вебер и современная теоретическая социология. М., 1998. С. 97.
178. Прагматизация сознания индивида западной цивилизации, распространившаяся как на межличностное общение, так и на религиозную сферу, нашла удачное определение в трудах патриарха Сергия (Старгородского) в виде понятия «правовое жизнепонимание». Патриарх Сергий убедительно показывает, как вырабатываемые многовековыми навыками активная воля, безупречная формальная логика, высокая культура производства и бытовой сферы, оторванные от апостольской традиции богообщения, логически приводят к выстраиванию на принципе рационального и прагматичного сопоставления встречных предоставлений, характерного для юридических обязательственных отношений, не только контактов с другими членами социума, но и с Самим Богом. «Нетрудно заметить, что может произойти, если человек… и свои отношения к Богу будет рассматривать с точки зрения правовой. Главная опасность этой точки зрения в том, что при ней человек может считать себя как бы вправе не принадлежать Богу всем своим сердцем и помышлением; в правовом союзе такой близости не предполагается и не требуется; там нужно соблюдать только внешние условия союза. Человек может и не любить добра, может оставаться все прежним себялюбцем, он должен только исполнять заповеди, чтобы получить награду. Это как нельзя более благоприятствует тому наемническому, рабскому настроению, которое делает добро только из-за награды, без внутреннего влечения и уважения к нему… Правовая точка зрения тем и грешит, что она это предварительное, подготовительное состояние освящает в качестве законченного и совершенного… В правовом союзе человек стоит пред лицем Божиим совсем не в положении безответного, всем Ему обязанного грешника: он наклонен представлять себя более или менее независимым, обещанную награду он ожидает получить не по милости Божией, а как должное за его труды. Предмет упования здесь, строго говоря, не милость Божия, а собственные силы человека, ручательством же, тем третьим, которое обязывает союзника, не делая его в то же время благодетелем, служат для человека его собственные дела. Дела, таким образом, превращаются в нечто само по себе ценное, заслуживающее награды… Притом достоинство заслуги приписывается не добродетелям или постоянным расположениям души, а отдельным внешним поступкам… Жизнь человека из свободно-нравственного возрастания превратилась в бездушное исполнение частных предписаний» ( Сергий ( Старгородский ) , архиеп. Православное учение о спасении. М., 1991. С. 18–19).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу