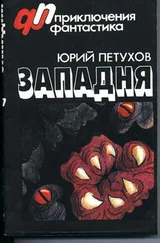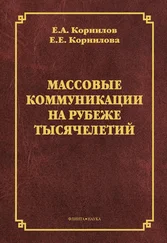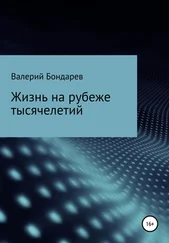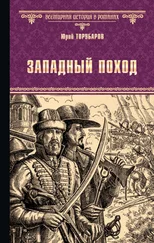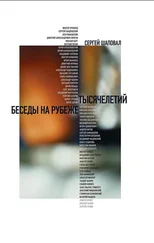Провозглашается целесообразность сотрудничества рационального и мистического, ортодоксии и ортопраксии: «необходима коррелятивность разума и веры, призванных к обоюдному очищению, нуждающихся друг в друге и обязанных это признать. Елавными составляющими этой коррелятивности выступают сегодня христианская вера и западная секулярная рациональность»; «как бегство в чистую ортопраксию, так и вытеснение содержательной этики из области веры… по сути, означает, несмотря на обманчивое первое впечатление, клевету на разум: в одном случае вообще ставится под вопрос его способность к познанию истины и отказ от истины возвышается до уровня метода; в другом вера выводится из области разума и разумное не допускается в качестве возможного содержания мира веры. Поэтому либо вера объявляется неразумной, либо разум неверующим, либо происходит и то, и другое… Задача церковного учительства прежде всего – продолжать апостольское увещевание и защищать фундаментальный выбор как от позиции отказа от разума в пользу данной эпохи, так и от капитуляции разума перед всесильной практикой» ( Ратцингер Й. (Бенедикт XVI). Чем держится мир. Дополитические моральные основы либерального государства. С. 102–103; его же. Ценности в эпоху перемен. О соответствии вызовам времени. С. 139 // Диалектика секуляризации. О разуме и религии. М., 2006; его же. Церковное учительство – вера – этика // Принципы христианской этики. М., 2007. С. 40, 57–58; его же. Введение в христианство. М., 2006. С. 67).
179. В общих чертах учение Августина в данном аспекте выглядит следующим образом. «Утверждение, что человек состоит из души и тела, непосредственно связано с идеей о двух уровнях познания. На одном уровне познание связано с телесными ощущениями: мы видим, слышим и т. д. и таким образом узнаем об изменчивых предметах. Такое знание нестабильно, непостоянно. Но существует, кроме того, познание души. Душа способна постигать неизменные, постоянные объекты. Например, только посредством знания души мы можем утверждать, что 2 + 2 = 4 всегда, вечно. Знание такого рода основано на интуитивном, внутреннем видении истины. Далее Августин рассуждает следующим образом: я знаю, что 2 + 2 = 4, но я, моя душа изменчивы: я не могу быть ни в чем уверен, ибо я смертен. Отсюда следует необходимость существования вечного, неизменного Бога» ( Мейендорф И., прот. Введение в святоотеческое богословие. Клин, 2001. С. 284; См. также: Попов И.В. Труды по патрологии. Том II. Личность и учение блаженного Августина. Сергиев Посад, 2005. С. 359). Ср.: «Единственно возможное с точки зрения Августина – это чтобы на интеллектуальную душу, так сказать, падал сверху свет, и в этом свете, который не принадлежит душе и находится вне ее и никоим образом не становится ее собственной природой, она постигала, что правильно, а что неправильно в ее собственных рациональных заключениях» ( Шеррард Ф. Указ. соч. С. 210); «Человек эксплицитно знает, что подразумевается под “Богом”, лишь постольку, поскольку он принимает эту свою трансцендентальность сверх всего, что предметно дано ему, и в своей рефлексии объективирует то, что уже было задано этой трансцендентальностью» ( Ранер К. Основание веры. Введение в христианское богословие. М., 2006. С. 60).
180. Такое понимание противоречит восточному богословию сразу в двух направлениях. Во-первых, «согласно Григорию Назианзину, Григорию Нисскому, Дионисию Ареопагиту… и другим восточным отцам, Бог абсолютно выше всего, вне всего, что доступно нашему разумению, и “выходит” из своей неприступности Сам как личный Бог, а не в силу тварной познаваемости» ( Мейендорф И., прот. Указ. соч. С. 285).
181. «Хотя ум, в согласии с Григорием Нисским, находится не внутри тела в том смысле, что он бестелесен, но одновременно, в согласии со святым Макарием, он в теле, а не вне тела в том смысле, что связан с телом и непостижимо управляет первым плотским органом, сердцем. Поскольку один святой помещает его вне тела не в том смысле, в каком другой – внутри тела, никакого расхождения между ними нет: ведь и говорящий, что божественное не пространственно, поскольку бестелесно, не противоречит говорящему, что Слово Божие некогда вошло внутрь девственного и всенепорочного чрева, по неизреченному человеколюбию немыслимо соединившись в нем с нашим телесным составом» ( Григорий Палама, сет. Триады в защиту священнобезмолвствующих. М., 1995. С. 187).
182. Там же. С. 196.
183. «Интеллект в представлении Фомы Аквинского – не более чем своего рода расширение понятия дискурсивного разума… В человеке нет другой интеллектуальной силы, отличной от разума; и формой познания, свойственной человеку, является мышление, или дискурсивное познание… прямые интуитивные знания Божественных сущностей недоступны человеку: человеческий интеллект в нашей земной жизни может познавать, только обращаясь к материальному и осязаемому» ( Шеррард Ф. Указ. соч. С. 218–219).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу