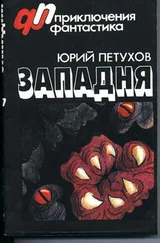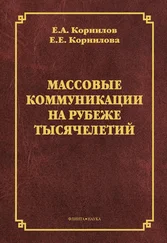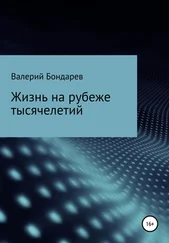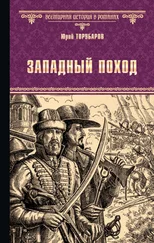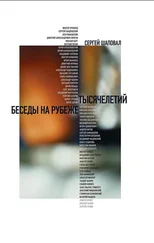184. Соколов В.В. Средневековая философия. М., 2001. С. 284.
185. Как отмечал С.С. Аверинцев, «расставшись с чистым августинизмом во времена Аквината, католическое мировоззрение в его господствующей форме делит бытие не надвое – “свет” и “тьма”, – а натрое: между небесной областью сверхъестественного и инфернальной областью противоестественного до конца этого зона живет по своим законам, хотя и под властью Бога, область естественного… В области естественного господствует сформулированный Аристотелем закон правильной меры, в соответствии с которым добродетель есть средний путь между двумя порочными крайностями… Принцип католической традиции требует, чтобы ради ограждения одного личного существования от другого субъекты воли были, подобно физическим телам, разведены в «ньютоновском» моральном пространстве, где их отношения регулируются двуединой нормой учтивости и контракта, не допускающей, вполне по Аристотелю, ни эксцессов суровости, ни эксцессов ласковости» ( Аверинцев С.С. Христианский аристотелизм как внутренняя форма западной традиции и проблемы современной России. Собрание сочинений. София-Логос. Словарь. Киев, 2006. С. 735–736).
Роль философии Аристотеля в качестве базовой платформы томизма общеизвестна. Русская христианская философия часто склонна видеть в унаследованном и развитом томизмом аристотелизме именно отмечаемое нами выведение на первый план видимого и рационально осознаваемого, обусловленное, в числе прочего, искаженным пониманием триадологии: «Аристотелизм есть именно такой платонизм, который, будучи базирован на эмпирически-фактической действительности, превращает единое из субстанции в абстрактную акциденцию, эйдос – в описательно-статическую форму, а реальную вещественность – в подлинную реальность вообще, хотя и зависящую от эйдоса. Католичество, как прельщенное тварью и вошедшее в союз с ней, должно было и в философии искать таких путей, которые бы обеспечили ей агностицизм в отношении первой ипостаси, рационализм в отношении второй и эмпирическое панибратство в отношении третьей ипостаси… Православие базировалось на апофатической Сущности, которая равномерно проявлена в трех равночестных ипостасях. Католичество, отвергая абсолютную апофатику (которая всегда требует энергийного символизма), приняло за основу не просто Сущность, или идею, в личностном бытии, но – объединенность Ее с другими, более материальными сторонами личности. Поэтому апофатизм превратился тут в агностицизм, а энергийный символизм – в статический формализм» ( Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1993. С. 881–882). Ср. также: «Ум (νους), способность созерцания, по греческому воззрению, есть главная способность человека и употребляется для выражения понятия духа. По своему содержанию восточное богословие хочет быть прежде всего развитием данных, заключающихся в Откровении, через применение к ним логических операций ума, а не рефлексию над опытом собственной жизни и деятельности человека» ( Бриллиантов А. Влияние восточного богословия на западное в произведениях Иоанна Скота Эригены. СПб., 1898. С. 92).
186. Декарт Р. Рассуждение о методе. Сочинения. СПб., 2006. С. 108.
187. Рассел Б. История западной философии и ее связи с политическими и социальными условиями от античности до наших дней. М., 2006. С. 680–682. – Не будет преувеличением сказать, что картезианское учение продолжило логическую линию Блаженного Августина и «ангельского доктора»: «Фактически существует очень небольшое отличие в главном между человеком в представлении Августина и человеком в представлении Декарта. И выражение cogito ergo sum (я мыслю, значит, я существую), подразумевающее не только главенство мысли над всем прочим, но также ее самодостаточность, если и не сформулировано прямо, то отражает условия, которые блж. Августин устанавливает как управляющие жизнью человека и определяющие его отношения с собой, с миром и с Богом» ( Шеррард Ф. Указ. соч. С. 212).
188. Декарт Р. Правила для руководства ума. Сочинения. С. 32–33.
189. «Очевидно, что “божественный голос”, воспринимаемый анонимным человеческим разумом – чистым или практическим, – есть голос изнутри самого себя… В случае Канта трансцендентный Бог может легко раствориться в голосе категорического императива, существующего в глубине “практического” человеческого разума» ( Grenz S.J., Olson R.E. Op. cit. P. 31).
190. Лега В.П. История западной философии. Ч. II. Новое время. Современная западная философия. М., 2007. С. 66.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу