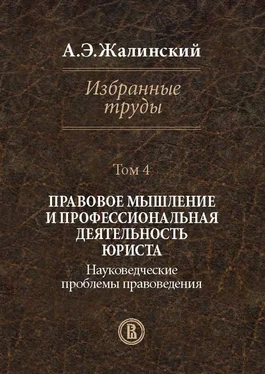Таким образом, хотя ст. 8 УК РФ пусть спорно, но формулирует, что именно является основанием уголовной ответственности. Этот вывод должен конкретизироваться применительно к данному деянию, совершенному (возможно, предположительно) данным лицом, в виде материально-правового обвинения. Внешне в этом выводе нет ничего принципиально нового. Но внимание к обвинению позволяет:
а) привести уголовно-правовую доктрину в соответствие с УПК РФ, а здесь главное – постановка уголовно-правовых сделок под проверку, введение их в структуру состязательности для придания им большей определенности;
б) развить новый подход к содержанию и правовому значению обвинения;
в) оптимизировать на этой основе практику принятия мер уголовно-правового воздействия, прежде всего наказания.
О соотношении уголовно-правового и уголовно-процессуального обвинения. По своей природе материальное обвинение реализуется в структуре отношений уголовной ответственности; уголовно-процессуальное – в структуре уголовного судопроизводства, т. е. юридически и содержательно раздельно. Однако оба вида обвинения постоянно воздействуют друг на друга, практически дифференцируясь лишь как предмет профессионального мышления. Соответствие этих видов обвинения обеспечивается, на наш взгляд, следующим образом.
Прежде всего, материальное обвинение должно рассматриваться как объект состязательного процесса; суд лишь подтверждает либо опровергает его, не соглашается с ним; сторона обвинения выдвигает его, формулируя как объект оценки; сторона защиты может опровергать обвинение. Это значит, однако, что стороны должны нести определенное бремя обоснования обвинения, осуществляя обоснование обвинения как процесс одноуровневый с доказыванием. В процессе тогда осуществляются не просто спор о правильности квалификации деяния, но обоснование, для которого должны быть использованы нормативно установленные правила и последствия их нарушения. При этом возникает право на материальную защиту, основания которой содержатся или должны содержаться в УК РФ.
Возможные аргументы носят теоретический, а значит, произвольный характер. Иными словами, право на материальное обвинение должно порождать право на материальную защиту, что требует принятия некоторых дополнительных правил толкования закона и уголовно-правовой оценки деяния. Уголовно-правовая защита требует самостоятельного рассмотрения.
Банальный пример. Часть 1 ст. 158 УК РФ не устанавливает нижней границы стоимости похищенного имущества. Статья 7.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях устанавливает ответственность за мелкое хищение чужого имущества, признавая в Примечании таковым хищение имущества, стоимость которого не превышает 5 МРОТ.
До сих пор отсутствуют процедуры решения коллизии уголовного и административного закона. Далее необходимы на законодательном уровне анализ и более разумные формулирование и классификация средств обвинения, во всяком случае, по критериям законности, справедливости, переносимости, т. е. в целом по легитимности средств обвинения.
Это также сложный и самостоятельный вопрос, который здесь можно лишь поставить. Но средства материально-правового обвинения и защиты должны:
а) иметь равную или сопоставимую обязательность дел суда (в случае их установления, признания); например, ст. 35 УК РФ содержит императивные предписания, правда, требующие толкования; ч. 2 ст. 40 УК РФ «Физическое или психическое принуждение», которая явно может рифмоваться со ст. 35 УК РФ, содержит оборот «Вопрос об уголовной ответственности… решается с учетом положений ст. 39 УК РФ»; правовая природа указания «с учетом» в императивном законе вообще не ясна, но что-то освобождающее суд здесь вводится;
б) быть одинаково определенными; например, ст. 64 «Назначение более мягкого наказания…» не раскрыто понятие исключительных обстоятельств и нет возможности как-то обосновать их наличие; зато ст. 69, 70 достаточно широко и жестко определяют свою сферу действия, резко ухудшая положение обвиняемого;
в) быть соразмерными, давать равные возможности «казнить» и «миловать». Это, пожалуй, наиболее актуальная и сложная проблема. УК РФ «перегрет» предписаниями, гонящими репрессию вверх.
Причем реальное действие этих предписаний хорошо известно судьям, но, по-видимому, безразлично законодателю и науке.
Назовем: ст. 35, совместно с квалифицирующими признаками многих статей Особенной части УК РФ; ст. 68, заставляющая применять наиболее строгие виды наказания, т. е. практически лишение свободы (одна эта статья ответственна за большую долю случайных преступников, отбывающих наказание в колониях; упомянутые ст. 69, 70 и др.). Хуже того, квалифицированные составы сформулированы так, что именно они применяются, подменяя собой основные.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу