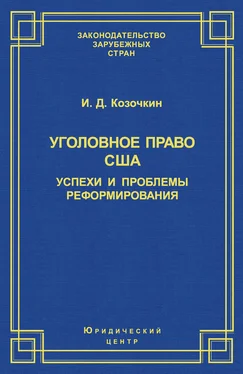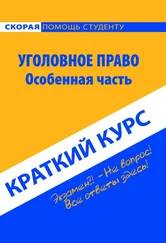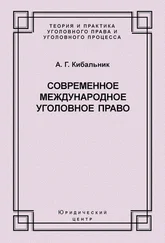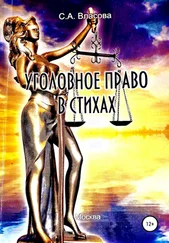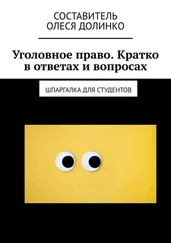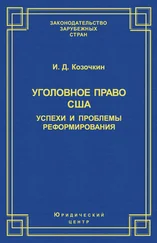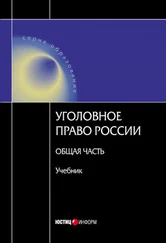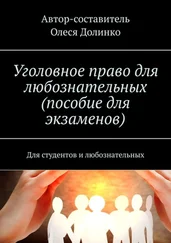В уголовных кодексах тех штатов, в которых содержатся специальные статьи об ответственности за фелонию – тяжкое убийство, предусматривается самостоятельное наказание за убийство, например по УК Висконсина – до 20 лет лишения свободы в дополнение к максимальному сроку, предусмотренному за основное преступление или покушение на него (ст. 940.03).
Третье ограничение означает, что доктрина “felony-murder” может быть применима, если убийство произошло в пределах res gestae фелонии. Это требование включает в себя два основных аспекта – временной и причинно-следственный. Иногда еще отмечается фактор места, но он представляется второстепенным.
В уголовных кодексах, в которых получила закрепление доктрина “felony-murder”, нередко определяются временные рамки, в пределах которых лишение жизни считается тяжким убийством: 1 – в ходе совершения или попытки совершения фелонии, а также 2 – непосредственно во время бегства с места преступления (указанные выше статьи УК штатов Нью-Йорк, Техас, п. 3 ст. 13А-6-2 УК штата Алабама) [984]. В первом случае – это время, с которого наступает ответственность за покушение – до совершения оконченного преступления. Во втором случае, время бегства с места совершения преступления или покушения на него каждый раз определяется исходя из конкретных обстоятельств дела. Так, например, человек, который похитил из кассы супермаркета 75 долл., а затем, уже находясь на улице и начав движение на машине с автостоянки, ударил служащего этого магазина, пытавшегося его остановить, и случайно убил его, был осужден за тяжкое убийство [985].
Во многих судебных решениях при рассмотрении соответствующих дел отмечается, что указанное время продолжается до тех пор, пока лицо не достигнет «места временной безопасности». Понятие – весьма растяжимое!
Второй аспект – причинно-следственный – представляется еще более сложным, поэтому, по-видимому, не случайно некоторые авторы обходят молчанием этот вопрос.
Ф. М. Решетников отмечает, что вопрос о причинной связи изложен в Примерном УК явно неудачно. Поэтому, продолжает он, положения о причинной связи не были восприняты уголовными кодексами штатов: их составители предпочли оставить решение этого вопроса юридической доктрине и судебной практике [986].
Это в полной мере относится и к причинной связи между фелонией и смертью потерпевшего. Те авторы, которые затрагивают вопрос о причинной связи, отмечают отсутствие какого-либо общего, выработанного судебной практикой подхода к ее решению. По одним делам, где, казалось бы, причинная связь есть, суды не признавали лицо виновным в убийстве, по другим – наоборот.
В 1982 г. Верховный суд штата Массачусетс рассмотрел дело, суть которого состояла в следующем. Обвиняемый был нанят, чтобы отвезти другого из Бостона в Питтсфилд для получения игорного долга. По прибытии на место во время возникшего конфликта обвиняемый убил должника. Суд определил правило “felony-murder” как разновидность «конструктивного злобного предумышления». Отметив, что это правило основано «на теории, что намерение совершить фелонию равносильно злобному предумышлению, требуемому для тяжкого убийства», суд в заключении отметил: теория применима только в случаях, когда фелония является таковой, что обнаруживает «сознательное пренебрежение к человеческой жизни, бессердечность, жестокость, неосторожность к последствиям и безразличное к общественному долгу состояние ума» [987].
Наличие или отсутствие причинной связи нередко выводится не столько из того факта, что смерть причиняется с целью облегчить совершение фелонии или обеспечить успешное бегство с места ее совершения, сколько из презюмируемой опасности самой фелонии, независимо от того, совершалась ли конкретная фелония опасным или насильственным способом или нет. Другими словами, если лицо добровольно принимает участие в совершении какой-либо опасной фелонии, то оно осознает, что смерть является возможным последствием ее совершения. Такое утверждение в какой-то степени можно считать оправданным в случаях, когда круг фелоний законодательно ограничен, так как он обычно включает наиболее опасные преступления – против личности (например, половые посягательства) и некоторые – против собственности, которые, по терминологии российского уголовного права, можно отнести к так называемым двухобъектным (например, ограбление, берглэри или поджог). В других же случаях решение вопроса всецело зависит от усмотрения суда.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу