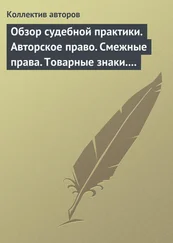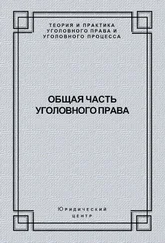Не отрицая самой возможности разработки теории законодательной текстологии вообще и уголовного права в частности, замечу, что она не вполне согласуется с принятым в лингвистике подразделением русского языка на функциональные стили. Специалист по стилистике русского языка Д. Э. Розенталь указывает следующее. Язык как явление социальное выполняет различные функции, связанные с той или иной сферой человеческой деятельности, среди которых следующие: 1) общение, 2) сообщение и 3) воздействие. Для реализации этих функций исторически сложились и оформились отдельные разновидности русского языка – стили, характеризующиеся наличием в каждой из них особых лексико-фразеологических, частично и синтаксических средств, используемых исключительно или преимущественно в данной разновидности языка. Ядро каждого из стилей образуют присущие именно ему особые языковые средства, создающие своего рода их микросистему с одинаковой стилистической окраской, с едиными нормами употребления. В соответствии с названными выше функциями языка выделяются следующие стили: разговорный (функция общения), научный и официально-деловой (функция сообщения), публицистический и литературно-художественный (функция воздействия) 302. Как видим, существует и разговорный стиль, то есть стиль не есть исключительная принадлежность текста.
Кроме того, весьма сомнительно утверждение А. И. Ситниковой о целесообразности отказа от языкового подхода к Уголовному кодексу в связи с большей продуктивностью законодательно-текстологического подхода. Оно не согласуется с методологическими положениями философии, логики и лингвистики, исходя из которых любой текст имеет логическую и языковую составляющие.
В лингвистике существует около 300 определений понятия «текст», наиболее же приемлемым для целей юриспруденции можно признать определение, данное И. Р. Гальпериным: «Текст – это произведение речевого творчества, обладающее завершенностью, объективированное в виде письменного документа, литературно обработанное в соответствии с типом этого документа, произведение, состоящее из названия (заголовка) и ряда особых единиц (сверхфразовых единств), объединенных разными типами лексической, грамматической, логической, стилистической связи, имеющее определенную целенаправленность и прагматическую установку» 303. Как видим, три компонента из числа образующих текст – лексика, грамматика и стилистика – имеют языковую феноменологию.
Такой подход к тексту воспринят в общей теории права. В частности, авторы коллективной монографии «Язык закона» пишут: «Законодательный текст – это определенного рода сообщение, которое объективировано в виде официального письменного документа, состоит из определенных единств, объединенных разными типами лексической, грамматической и логической связи, и имеет модальный характер и прагматическую установку»; «Нормативный акт – это письменное литературное произведение… Общим для всех видов литературных произведений является грамматический строй и словарный запас, стилистические основы» 304. Теоретик права Н. А. Власенко, кроме того, выделяет языковую, логическую, грамматическую и графическую основы законодательного текста 305, что, по его мнению, позволяет более четко видеть назначение и функции каждого начала в формулировании (изложении) юридических предписаний 306, и с чем вполне можно согласиться.
Очевидное присутствие в тексте логического компонента, наряду с языковым, объясняется онтологическим статусом языка и мышления в общей картине мира и их соотношением: мышление и язык находятся в неразрывном органическом единстве, мышление не существует без языка, а язык не может существовать без мысли. Он является способом существования мысли, ее материализацией, то есть формой выражения мысли. Природа мышления как обобщенного и опосредованного отражения действительности, а также природа языка как формы выражения мышления, важнейшего средства общения, обмена мыслями между людьми, не могут быть поняты, если мышление и язык рассматривать изолированно, в отрыве друг от друга 307.
Один из видных отечественных языковедов, А. А. Реформаторский, так объясняет соотношение языка и логики: «Так как язык непосредственно связан с мышлением, то наука о языке связана с логикой, наукой о законах мышления и о формах мысли. Тесная связь с логикой и использование логического аппарата определений и обозначений в лингвистике отнюдь, конечно, не означает, что логические категории (понятие, суждение, умозаключение и т. п.) должны совпадать с языковыми категориями (морфема, слово, предложение), однако соотносительность этих двух планов не подлежит сомнению, хотя далеко не все, что есть в логике, должно быть в языке, и тем более языковые явления далеко выходят за пределы логики» 308.
Читать дальше