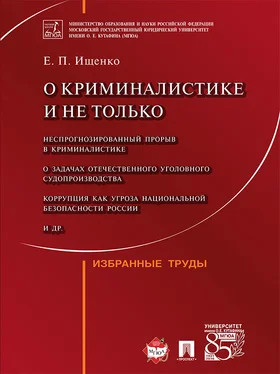По таким уголовным делам, как правило, вызывающим большой общественный резонанс, чрезвычайно важен анализ доказательственной базы, нередко очень сложной и неоднозначной, особенно по делам о групповых преступлениях. Такие уголовные дела обычно бывают многотомными, их материалы насыщены специальной терминологией, заключениями различных судебных экспертиз. Судебное разбирательство по этим делам тянется месяцами, а то и годами. Тут и профессиональному судье с большим опытом судебной работы бывает непросто разобраться во всех обстоятельствах, взвесить все «за» и «против», дифференцировать степень виновности каждого подсудимого. Что же говорить о людях, взятых «с улицы» путем случайной выборки? Они накапливают впечатления, а то и откровенно скучают, не понимая сути происходящего, но стараясь играть роль «судей факта».
Положение усугубляется тем, что при рассмотрении дела судом присяжных судья оценивает доказательства лишь в аспекте относимости и допустимости, не вдаваясь в их содержание. Такой подход тем более порочен, что на откуп присяжных отдан главный вопрос о виновности или невиновности каждого из подсудимых в инкриминируемом ему деянии. Для этого, в соответствии со здравым смыслом, совершенно необходимо оценить доказательства, полученные в ходе судебного разбирательства, чего человек без специальной юридической подготовки и соответствующего опыта сделать не в состоянии.
Это трудный путь, по которому присяжные заседатели почти никогда не идут. Второй, психологически более комфортный подход, – оправдать подсудимого, что и происходит в очень большом числе случаев. И дело тут не столько в беспринципности профессиональных юристов, в первую очередь защитников, цинично использующих эмоциональное в своем большинстве восприятие присяжными заседателями происходящего на процессе, сколько в отношении общества к судебной власти, в отсутствии у присяжных заседателей понимания исключительной важности исполняемой ими общественной функции 147.
При обсуждаемой форме судебного разбирательства об установлении истинных обстоятельств рассматриваемого преступного события не может быть и речи. Нам могут возразить, что действующий УПК РФ об установлении истины даже не упоминает, что она исключена из задач отечественного уголовного судопроизводства. (Объективности ради следует отметить, что из УПК РФ исключены и все другие социальные задачи – защита интересов государства и общества, воспитательное значение уголовного процесса, предупреждение преступлений и т. д.) Истина законодателем принесена в жертву состязательности как конституционному принципу отправления правосудия. А вот для состязательности в суде присяжных и впрямь самый широкий простор.
Однако «состязательность как логический прием познания криминальной действительности в уголовном судопроизводстве через столкновение и противоборство противоположностей сторон не имеет смысла и бесполезен, если его результатом не будет отыскание истины» 148. «Если же истина не будет установлена, то в лучшем случае останется недостигнутой конечная цель уголовного процесса и не будет получено никакого положительного результата (не установлено лицо, совершившее преступление, потерпевшему не возмещен ущерб и т. д.), в худшем будет получен отрицательный результат…» 149.
Представляется несомненным, что требования ст. 15 УПК РФ о разграничении функций обвинения, защиты и разрешения дела не должны влечь абсолютной пассивности суда, поскольку в ходе судебного следствия могут возникнуть ситуации, требующие активного участия в их разрешении со стороны судьи. Бездействие в одной из таких ситуаций может привести к ненадлежащему проведению судебного следствия, к совершению судебных ошибок, вынесению несправедливого приговора. Поскольку судья ответственен за выносимый приговор, а значит и за всестороннее исследование доказательств, он не должен быть пассивным наблюдателем за «схваткой» сторон обвинения и защиты 150.
В этой связи мы считаем бесспорным мнение, что «истина и только истина, правда должна лежать в основе такого акта правосудия, каковым является судебный приговор. Обязанность суда и судьи в каждом конкретном случае устанавливать по делу истину есть не только их служебный долг, но и долг нравственный. Суд не имеет нравственного права осудить невиновного; но суд не имеет и нравственного права оправдать виновное в преступлении лицо. Любой из этих вариантов постановления судом соответствующего приговора есть отступление суда (судьи) как от своего служебного, так и нравственного долга» 151. Можно ли говорить о нравственном долге присяжных заседателей? Говорить-то можно, но очень уж часто срабатывает у них стадный инстинкт.
Читать дальше