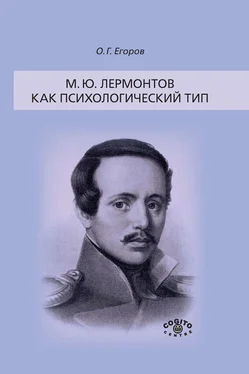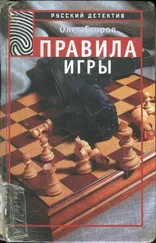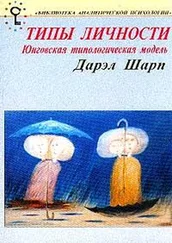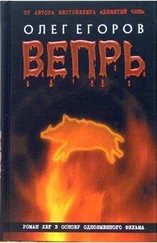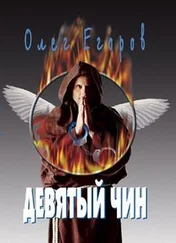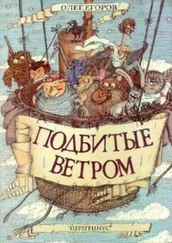Василий Иванович Красов (1810–1854) вошел в историю русской литературы как самый талантливый поэт кружка Н. В. Станкевича. Написанная им в 1839 году «Клара Моврай» занимает особое место в его творчестве. С одной стороны, она стала поэтическим итогом его увлечения английской литературой. С другой – в ней на новой культурно-исторической основе развиваются традиции балладного жанра Жуковского, в частности его творческого перевода баллады И. – В. Гёте «Лесной царь».
Интерес Красова к английской и немецкой литературам был устойчивым и разносторонним. За год до создания «Клары Моврай» поэт защищал докторскую диссертацию на тему «О главных направлениях в английской и немецкой литературах XVIII века». Красову также принадлежат переводы стихотворений Гёте «Король» и Г. Гейне «Жизнь – ненасытный мучительный день…» Что касается традиций Жуковского в освоении поэтической культуры, то эту тенденцию в творчестве Красова отметил еще В. Г. Белинский. В письме к И. И. Панаеву от 10 августа 1838 года критик писал по поводу стихотворения Красова «Дума», что оно «относится к Жуковскому». Для Красова романтизм Жуковского – это не отдаленная творческая эпоха, а близкое вчера . Таким образом, круг поэтических мотивов и культурных интенций, относящихся к «Кларе Моврай», выглядит довольно определенно.
Поэтическое родство баллад «Лесной царь» и «Клара Моврай» бросается в глаза уже с первых строк. Оба произведения, написанные амфибрахием, начинаются с одного и того же повторяющегося вопроса: «Кто скачет, кто мчится под хладною мглой?» (Жуковский); «Кто скачет, кто мчится на белом коне?» (Красов). Однако первоначальное сходство, относящееся к ритмике и строфике, в дальнейшем переходит на другие, глубинные уровни. Для их анализа необходимо предварительно исследовать источники произведений обоих поэтов.
«Лесной царь» Жуковского является вольным переложением баллады Гете. Немецкий поэт по своему мировоззрению не романтик, а просветитель. Баллада была написана им в творческую эпоху (1782 г.), которую гетеведы называют «первым веймарским десятилетием», которое последовало за периодом «бури и натиска». Настроение Гёте более уравновешенное и спокойное, близкое к «благородной простоте» классики. И баллады этого периода являются оригинальными творениями поэта, а не переработкой народных легенд, как у романтиков. Однако в балладах данной группы Гёте проявил повышенный интерес к таинственному, не постигаемому разумом, скрытому подспудно в природе и человеке. Такой интерес был близок романтическому мироощущению и поэтому нашел сочувствие у Жуковского.
Баллада Красова «Клара Моврай», как указал автор, написана им по прочтении романа Вальтера Скотта «Сент-Ронанские воды». И хотя Скотт высоко почитался всеми русскими романтиками, именно этот роман английского писателя написан на материале современной жизни и близок произведениям английских реалистов. [568]Некоторыми своими элементами он близок к готическому роману, что сказалось и на поэтической концепции баллады Красова. Роман Скотта был известен А. С. Пушкину и В. Г. Белинскому, его читал Ф. М. Достоевский. А И. С. Тургенев упоминает этот роман в своем позднем рассказе «Клара Милич».
Общим у Жуковского и Красова оказывается не только интерес к популярным мотивам немецкого и английского романтизма. Эти мотивы затрагивают глубинный слой произведений двух поэтов в их перекличке. Сюжеты, образы и символы баллад приоткрывают смыслы, относящиеся к психологическим и культурным основаниям более общего порядка, чем их внешние проявления. Назовем их в порядке степени значимости и способа выражения. 1. Идейный мотив. Мотив безумия героев, связанный с их бессознательным и выраженный в видениях. 2. Мотивы-символы, отражающие глубинную психологию и выраженные в образах царя, возлюбленного, коня и бега. 3. Символические образы природы – леса, гор, предвечерних сумерек, тишины. 4. Поэтический синтаксис как лингвостилистическое средство выражения глубинного пласта баллад и идейного замысла авторов. Рассмотрим по порядку все четыре слоя произведений Жуковского и Красова.
Сюжеты обоих произведений объединены мотивом безумия их главных героев. В переводе на язык современной психологии эти аффекты можно квалифицировать как всплеск бессознательного. Гете отнес их к области таинственного . Как объясняет глубинная психология, «в процессе адаптации к внешнему миру ребенок получает множество психологических потрясений ‹…›» Детей в этот период «влечет еще скрытый в подсознании поток унаследованных и инстинктивных архетипических стереотипов». [569]Именно такая ситуация изображена в балладе Жуковского.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу