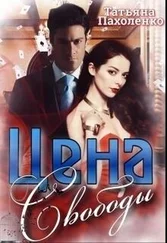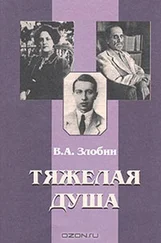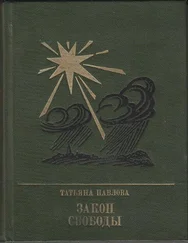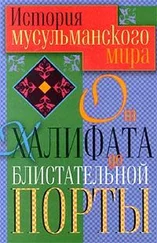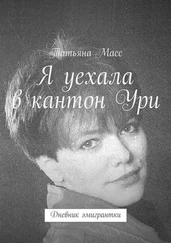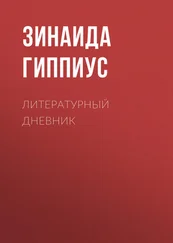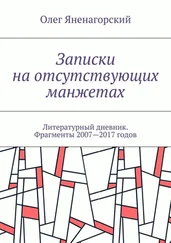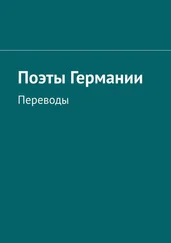29 марта 1996 г.
Андрей Платонов. Счастливая Москва
Стиль большого писателя сказывается в каждой написанной им строчке. Мне долго не удавалось преодолеть первую же фразу, с которой начинается роман «Счастливая Москва»: «Темный человек с горящим факелом бежал по улице в скучную ночь поздней осени». Трудность вхождения в текст «Москвы» заключалась в том, что я пыталась анализировать его традиционно, но ощущала сильнейшее ответное сопротивление. Итак, «темный человек…» – типичное платоновское сочетание, в котором абстракция сплавлена с картинностью. Внешне картина: темная фигура, силуэт, внутренне – темный, забитый, неизвестный, пугающий… «…В скучную ночь поздней осени». Кто это говорит? Девочка? Автор? Опять внешняя ясность – ночь поздней осени, конечно же, скучна, но в контексте творчества Платонова, скука ночи заключается в том, что человек находится в ней в состоянии бездействия, вынужденной остановки. Ночь – уступка несовершенному человеческому организму, которому требуется отдых. Оттого же скучны и сны – они погружают человека в пространство иллюзии, и он грезит, а не мыслит с пользой для дела. Выражение «…сильный выстрел из ружья…» как будто воспроизводит детскую эмоцию, но потом – вполне взрослый вывод: «…наверное убили бежавшего с факелом человека». Так кто же это говорит? «…Бедный грустный крик…» – так может говорить взрослый, а не маленькая девочка. «…И память, и ум раннего детства заросли в ее теле навсегда последующей жизнью» – почти как у Радищева о мысли, вырабатываемой кровью и достигающей мозга как некое тело. Такая архаика заставила меня впервые почувствовать, что я разбираю «не тот» текст.
Основное впечатление при чтении: оно надрывает душу, наполняет ее горечью и тоской, но постепенно приходит ощущение, что происхождение этой тоски то же, что и смеха, добываемого посредством щекотки, поскольку нет объекта, которому сопереживаешь. Героям Платонова не сопереживаешь, так как они начисто лишены внутреннего духовного пространства, возможности сделать сознательный выбор в своей жизни, принять решение, перед ними не стоит никаких творческих задач, их не мучает совесть – они не рефлексируют. Это совершенные механизмы, сопереживать которым не приходит в голову, потому что они никак не связаны со средой, в которую погружены, у них нет прошлого и настоящего, они находятся в безвоздушном, застывшем пространстве чистой функции. То, что надрывает душу: «…бедный грустный крик» убиваемого, – вне текста, это мое собственное представление о несправедливости, жестокости. Сопереживаешь не образу, созданному художественными средствами (в сущности, не знаешь, кто этот человек, его нет в тексте – его судьбы, его пути), а вообще всем погибающим. Чувство сопереживания становится безадресным, расплывчатым, недейственным, глубоко личным, и для меня это явилось вторым признаком архаичности текста – он сам почти ничего не рассказывает, не показывает, но все время обращает читателя лицом в себя, как перст указующий. Мне стало ясно, что передо мной текст не прозаический, что как будто очевидно, если исходить из его архитектоники, а поэтический, с сильнейшей лирической интонацией. Темная поэтическая речь, но без композиции, без темы, без развития, обращающаяся прямо к эмоции, к чувству читателя и потому волнующая, задевающая, тревожащая, хватающая за душу:
Но до поздних лет в ней
неожиданно и печально
поднимался и бежал
безымянный человек —
в бледном свете памяти —
и снова погибал
во тьме прошлого,
в сердце выросшего ребенка.
Или еще:
Он включал радио и слышал,
что музыка уже не играет,
но пространство гудит в своей тревоге,
будто безлюдная дорога,
по которой хотелось уйти.
И так на каждом шагу: фразы-строфы, записанные в строчку. В этом – огромный эффект воздействия «прозы» Платонова. Так выражает себя стихия, а не характер, не тип, и потому существование платоновских героев фантастично, иррационально, необъяснимо. Архаика «Счастливой Москвы» не внешняя, а глубоко внутренняя, этот роман – не новый эпос, а попытка создания нового священного писания. Моисей, принесший своему народу Заповеди Божьи, застал его поклоняющимся идолу – золотому тельцу. И только гнев пророка заставил народ внешне подчиниться высшему закону, а втайне иудеи продолжали поклоняться идолам. Заповеди Божьи были для них чем-то нереальным, отвлеченным, а жизнь человеческая шла тут, на земле, и никак не сообщалась с единым Богом. Потом Бог прислал в мир Иисуса – человека, душа которого и была вочеловеченным высшим законом. Жизненный путь Иисуса, творимые им чудеса, мученическая смерть и воскресение – это путь человека не только материального, но и духовного. Высший закон не нужно искать где-то вовне, он – внутри каждого. Таково радостное утро человечества, обретение людьми истинного знания о своей душе – оно ведет светлой стезей, если вслушиваться в себя и постигать свои настоящие (духовные) потребности. Но вот религия развенчана как величайший обман, и человек должен был осознать себя заново, именно как материальную часть материального мира. Каков же этот мир?
Читать дальше