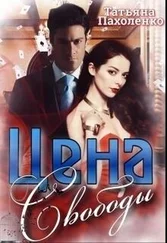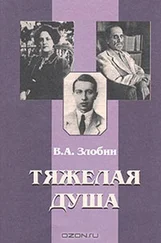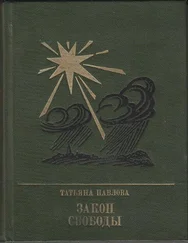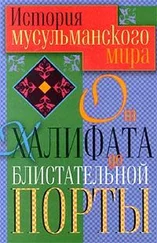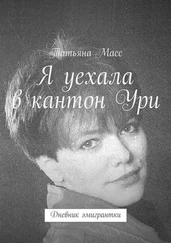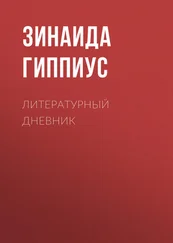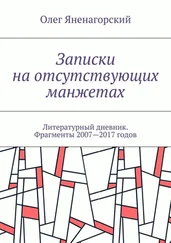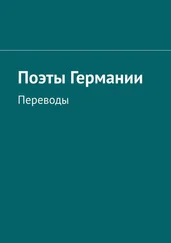И вот после того, как все стало ясно, после «болтовни», от которой он устал, наступил момент, когда надо было уже или на что-то решиться, или «…отказаться от жизни совсем! …послушно принять судьбу, как она есть, раз навсегда, и задушить в себе всё, отказавшись от всякого права действовать, жить и любить!» Ценой нечеловеческого напряжения воли Раскольников добился временного «онемения» нравственного чувства. Он идет убивать и действует машинально, даже мысли его – пустые обрывки, пробуксовка, инерция – не несут в себе никакой информации и не отражают его действительного положения. Даже мелькнувшее: «Не уйти ли?» – это мысль-суррогат неизвестного происхождения, не располагающая никакой дальнейшей аргументацией. Сердце его «стукало». Но «амнезия» длилась недолго, и Раскольников срывается в «болезнь», симптомы которой ему очевидны: после убийства вдруг проснулись чувства – отвращение. Клочки мыслей после возвращения домой. А главное – распад воли: никакого дела не получилось, когда он пришел к Разумихину, чтобы уже поступить в соответствии со своим планом о новой жизни – начать, собственно, восхождение на вершину, деньги у него уже были, и – не смог. «…Я только хотел поставить себя в независимое положение, первый шаг сделать, достичь средств, а там бы всё загладилось неизмеримою, сравнительно, пользой… – говорит впоследствии Раскольников Соне. – Но я, я и первого шага не выдержал, потому что я – подлец! Вот в чем все и дело!» То есть для Раскольникова, порабощенного идеей, человек, не сумевший задавить в себе совесть, – «подлец» и «низшее существо». Кроме того, здесь зародыш того, что возникает, и довольно неожиданно для людей, как побочный эффект реализации благородных целей: убежденность «революционеров» и «реформаторов» во второсортности, низости и никчемности тех, кто отвергает несущую им спасение идею. Убежденность, что такие люди должны быть просто ликвидированы. Для Раскольникова проблема заключалась в том, чтобы ликвидировать себя, свою живую душу, раз уж оказался недостоин великой идеи. Но он борется в надежде «выздороветь». Предпринимает последнюю попытку преодолеть совесть после преступления, устранить ее задним числом. Придерживается довольно наглой и самоуверенной линии поведения при встречах со следователем, не проявляя ни малейших признаков раскаяния. Отказывается от явки с повинной, потому что считает, что миром правит сила в лице Наполеонов и подобных ему тиранов и диктаторов, поэтому перед властью (перед «ними») он ни в чем не виноват, действуя так же, как и «они». Убитую им Лизавету вообще не помнил, прихлопнул, как насекомое, а старуху-процентщицу помнил как свой позор и поражение. Он не смог смириться с тем, что ему права не дано, и все его напряженные метания в последующий после убийства месяц имели целью выправить положение, доказать самому себе, что он, хотя бы и с опозданием, но сумел или сумеет в будущем осуществить задуманное. Вот Сонечке Мармеладовой это удалось, и Раскольников, осознав это, кланяется ей в ноги. Сначала Раскольников воспринимал ее в духе своей теории, что она очередной «подлец-человек», привыкающий ко всему, приспосабливающийся к положению «материала», а потом до него дошло, что она ради своей идеи о благополучии родных смогла убить свою живую душу, переступить через стыд и совесть и уничтожить в себе «подлеца». У нее высокое служение и она право имеет. А он-то и есть этот самый «подлец-человек», и от этой мысли ему плохо: «Если бы только я зарезал из того, что голоден был, то я бы теперь… счастлив был!» Эту его особенность сразу почувствовали каторжане, с которыми он отбывал наказание: «В Бога ты не веруешь! Убить тебя надо!» Страдание Раскольникова, «опричь каторги», и заключается в том, что он понял свою неспособность стать сверхчеловеком.
Сегодня психологи сказали бы о Раскольникове, что у него четко выражена зависимость, несамостоятельность душевного склада, – свои затруднения он пытается решить за счет других, предлагая им неравноценную сделку: вы мне всё, даже и саму жизнь, а я вам – идею о всеобщем благоденствии потом. В сущности, Достоевский почти полностью располагает Раскольникова за пределами нравственной жизни. Но гениальность писателя проявилась в том, что он показывает, как Раскольников совершает яркие благородные поступки: спасает детей из горящего дома, отдает деньги Катерине Ивановне, помогает больному товарищу, а затем и его отцу. Ученые называют подобное поведение демонстративным, суть которого заключается в том, что трусливый стремится выглядеть в глазах окружающих храбрецом, жадный – щедрым, подлый – благородным. Так и Раскольников, зная о себе всё, старается компенсировать, «загладить». Его благородные поступки не касались нравственной жизни, скользили по поверхности, оставляя неподвижной глубинную сущность его характера. Неподвижная мысль, владевшая им, бросалась в глаза всем хорошо его знавшим. Та точка, на которой стоял Раскольников, была для него окончательной и бесповоротной. И в этой точке он должен был развернуться, отвоевать себе пространство, и тогда, действительно, всю его жизнь старуха-процентщица заела, и ее оставалось только убить, чтобы «освободиться». Неспособность видеть дальше собственного носа – характерная черта всех идейных фанатиков. Взять хотя бы такие «смелые» рассуждения студента в трактире: «…с одной стороны глупая, бессмысленная, ничтожная, злая, больная старушонка, никому не нужная и, напротив, всем вредная, которая сама не знает, для чего живет… С другой стороны, молодые, свежие силы, пропадающие даром, без поддержки, и это тысячи, и это всюду! Сто, тысячу добрых дел и начинаний, которые можно устроить и поправить на старухины деньги… Убей ее и возьми ее деньги с тем, чтобы с их помощью посвятить потом себя на служение всему человечеству и общему делу… да ведь тут арифметика!» Арифметика, конечно, неотразимая для «прогрессивного» ума. И в самом деле: «Грабь награбленное!» – разве не выход? Но так – позже, а в те времена участь Раскольникова была предопределена реакцией молодого, восприимчивого ума, замахнувшегося на воплощение пустых словес и надорвавшегося от пошлости безответственных лозунгов, брошенных наудачу ловцами человеческих душ. И здесь Достоевский поразительно современен. Он с необыкновенной силой художественной правды обозначил один из «вечных» вопросов бытия: может ли человек сам, без какого-либо влияния со стороны, решить для самого себя и для всех, что истинно в этом мире, а что – ложно, что благодетельно, а что – преступно, и где критерий, позволяющий определить это? Достоевскому удалось показать трагедию отдельной человеческой воли, вечно предпринимающей попытки «…взять просто-запросто всё за хвост и стряхнуть всё к черту!» Показать преступление как переступание через все нормы нравственной жизни и наказание отчетливым пониманием, что за дешевый миг воображаемого «могущества» отдана бесценная собственная жизнь.
Читать дальше