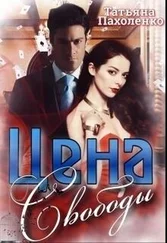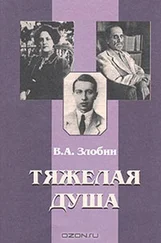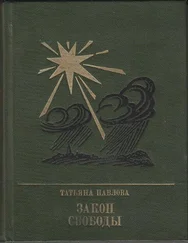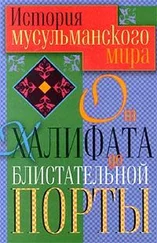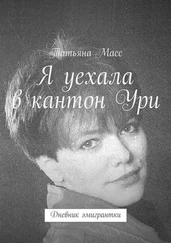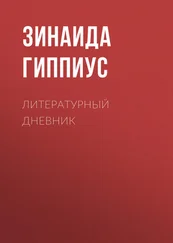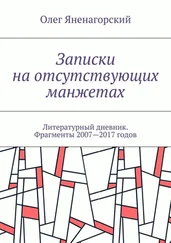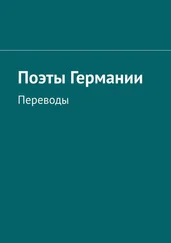Свою идею о власти и могуществе Раскольников формулирует так: «…власть дается только тому, кто посмеет наклониться и взять ее… настоящий властелин, кому всё разрешается, громит Тулон, делает резню в Париже, забывает армию в Египте, тратит полмиллиона людей в московском походе и отделывается каламбуром в Вильне; и ему, по смерти, ставят кумиры, – стало быть, и всё разрешается». Вероятно, Раскольников был уверен, что перечисляет факты, тогда как на самом деле он отсекает их, лишает содержания и после этого группирует остаток по своему усмотрению. Проблему личности в истории он редуцировал до одной только личности. Наполеон для него человек вообще, некая абстракция. Далее в той же логике умствования он уравнивает Наполеона с собой как человеком вообще и считает возможным примерить на себя те действия, которые совершал Наполеон – человек сам по себе. «Жизненный материал» собран, теперь наступила пора «обобщений».
Взят Наполеон как индивидуум, изначально предстоящий пред одним только Богом и отбросивший этого Бога как предрассудок. Таким образом, высвободилась воля, породившая ничем не остановимое, ничем не сдерживаемое действие. Никаких угрызений совести – одна голая цель достижения вершины власти и средства, широко черпаемые отовсюду, любые, без разбора, ради ее достижения. Отчего бы и Раскольникову не пойти тем же путем, но – ради цели высшей, ради всеобщего блага? Для начала (для первого шага!) ему нужны были деньги. Эти деньги были у старухи-процентщицы. Значит, нужно их у нее отнять. Здесь и колебаний никаких не должно быть. Все просто. Но когда необходимо было приступить к реализации плана, тут-то стройная логическая схема и начала давать сбои, что поначалу обескуражило Раскольникова. На их осмысление он потратил полгода, бросил университет и заперся в своей каморке, неотступно пытаясь определить, в чем слабость его теории. Он даже был вынужден открыться дочери своей квартирной хозяйки и ради такого случая признал ее своей невестой, чтобы воспользоваться сторонним человеком как испытательным полигоном для своей идеи. Раскольников не мог понять, что его умствованию сопротивляется человеческое в нем, сама жизнь, а когда понял, то взялся за «инвентаризацию» себя. Внутреннее сопротивление он определил как совесть, которая запрещала ему распоряжаться чужой жизнью и предсказывала гибель на этом пути. На это у него были неотразимые доводы: не останавливала же совесть великих людей, не хватала их за руки – иначе как бы они достигли вершин власти? Стало быть, им разрешено было по совести проливать реки крови. Но в отношении себя такой вывод ему был не совсем понятен, когда в теории всё сходится, а в реальности – не совсем. Как совесть свою убедить, чтобы не сопротивлялась? Каким конкретно образом устраняется совесть после устранения Бога? Чем оправдывали себя великие люди? А может быть, и не оправдывали вовсе – нужды не было?
Разговор в трактире с Мармеладовым дает новый толчок течению его мыслей относительно того, что такое совесть и как с ней справиться. Совесть оказывается ничем иным, как предрассудками и страхом, к которым без критики привыкает «подлец-человек», послушно перенимая их от предыдущих поколений. Если суметь преодолеть родовой глупый страх и внушенные воспитанием предрассудки, то это и будет означать свободу воли для действия, освежающего затхлую атмосферу жизни. Свободный бессовестный человек перестает быть «подлецом». И уже с этой точки зрения Раскольников распознает предрассудки и страхи в письме матери к нему об их с Дунечкой планах относительно дальнейшего устройства для всех троих жизни. Он возмущен ее обращением к нему как обыкновенному человеку, более того – взбешён и резко отметает такого рода сотрудничество и параллели. Ему противны «слабость» матери и сестры, их непонимание собственного рабского положения из-за нежелания бунтовать и готовности жертвовать: «О, низкие характеры!» И более всего он сердит оттого, что уже и не представляет себе, как будет жить без осуществления своей сладкой мечты об «освобождении», как ему жить «как все». Впрочем, Раскольникову основные моменты идеи о власти были понятны довольно давно, что и позволило ему изложить их в свое время в статье «О преступлении». В ней два пункта: преступление, разрешенное по совести, не сопровождается «болезнью», но преступление, совершенное без преодоления совести, даже и при отброшенным Боге («Не убий»! ), неизбежно влечет за собой «болезнь» – помрачение рассудка, распад воли, случайность и нелогичность поступков. Все дело в совести – сумел ее отбросить, значит, доказал принадлежность к избранным, собственно к людям, имеющим дар и талант сказать «новое слово». Не сумел – значит, место тебе среди «материала», идущего на создание этого «нового слова». Раскольников рассуждает обо всем этом, как о само собой разумеющейся реальности, при том что все эти представления выдуманы им от начала до конца.
Читать дальше